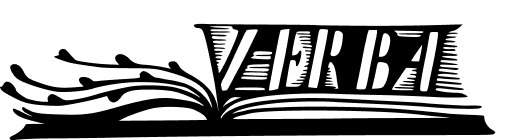***
Всё рушилось и распадалось на части, машины сбивались с курса, собаки припадали на передние лапы. В те дни Вооружённые силы проводили звуковые эксперименты в пустыне неподалёку. Я всегда была нервной, написала она. Она была писательницей, при том весьма успешной. Но её мечтой было написать принципиально новый роман, и, хотя она постепенно осознавала, что об этом мечтают все писатели, она не переставала цепляться за эту фантазию. Она не знала, что будет отличать её роман от других, кроме истины и очевидности происходящего. Написав его, она смогла бы назвать себя настоящей писательницей.
Она замолкла.
Откуда бы росла третья рука? Я слышала, что подобные вопросы задают на тестах по оценке креативности. Станет ли принципиально новый роман таким же, как третья рука? Я ненавижу креативность, говорила она. Нет, он будет совсем другим. Барт умер, не сумев написать его. Она вспомнила о тех, кто ещё пытался - о Флобере и о других. О тех отрёкшихся, которые никогда не могли ясно сказать, от чего они отрекались. Вот стул на котором я сижу, подумала она. Вот его фантастические переплетения, это плетёный стул, старый, с заднего крыльца, я внесла его в дом на зиму. Вот я сижу здесь, при свете лампы, завернувшись в покрывало, рядом с большим чёрным окном, чёрным от самого декабря, кухня, какой она может быть в половине пятого утра, отражается в стекле. Стекло холодно наощупь. Громкость ночной тишины на кухне. Тихий скрип стула.
Чтобы роман стал принципиально новым, он должен с чем-то покончить, покончить с сюжетом, фабулой, удовольствием, которое читатель получает от скрытых ответов, и с их преднамеренностью. Покончить с ними, а не просто отречься. Отречься – значит, показаться слабой эгоистичной реакционеркой. Если бы она писала по-настоящему, то писательство затянуло бы её в себя, стерев всё, кроме её человеческого достоинства. Всё в ней откликнулось бы на историю, но её история не рассказала бы о рае, аде, хаосе, мире, Троянской войне или любви. История рассказала бы саму себя. В ней не будет ни пробелов, ни недостойных моментов, когда она не знала, о чём говорит. Потому, ей хотелось сказать, что эта история обо всём и ни о чём одновременно. Но теперь, лишь смутно осознавая, что она подражает Флоберу, цитируя его письмо о «книге ни о чём», которое цитируют все, кто хоть раз задумывался об этом, она знала, что потеряла тот шёпот, след, суть, которые ей принадлежали (что бы «принадлежали» ни значило в мире, где есть слово «подражание») и она оказалась потерянной, одураченной, мечущейся, неточной, многословной – нечто сбило её с пути. Отпусти меня! Меня нельзя отпускать, меня, погребённую под покрывалом, наваждение отступает с шорохом, рассвет окрашивает воздух в бледно-голубой цвет, помехи прекратились.
Расслабленная и разленившаяся, как сама ночь, она поднялась и сложила покрывало, жалея, что не голодна, жалея, что не принадлежит к тем людям, которые наслаждаются ванной по вечерам. Отчасти это было потому, что каждый раз опускаясь в горячую воду, на мгновение она вновь переносилась в своё детство: ей пять лет, сейчас вечер воскресенья и она очень напугана. Но почему? В понедельник в школу? Но ей нравилось учиться. Сначала нравилось. Сначала, не потом. В любом случае, в тот момент её накрывала всепроникающая волна ужаса, огромный, обжигающий, резкий всплеск страха, пронизывающий её разум и тело, ощущение того, что само Время, несёт её из вечера воскресенья в утро понедельника, и дальше, всё дальше тащит её через равнины моментов, из сегодня в завтра, из серого в серое, из яркого в яркое, это движение, невыносимое, неумолимое, уничтожающее всё на своём пути движение в темноту – в темноту чего? Была ли она готова к этому в пять лет? Можно ли было спасти себя от этого? Кого надо было умолять о помощи? Кто был её врагом? Что же до обжигающего трепета кипящей воды – его нельзя отрицать: откровение пронизывало его, заставляя её петь всем своим существом. Затем всё пропадало. Ужас стал колыбельной, теперь она не ждала иного. Когда она начала ждать иного? Было ли это привилегией детства? Она повзрослела, когда начала ждать? Ведь привилегия пронизана эгоизмом, прорезавшимся требованием самости. Требование быть собой, выраженное словами, поиск самовыражающих слов. Если я найду слова, я стану собой, подумала она, именно тогда решив стать писательницей.
Сперва её новорождённой самости нужны были силы, чтобы преодолеть потаённые страхи и найти что ответить на такие вопросы, как «о чём писать?» и «кому не наплевать?». Она написала о своей подруге Марте, опрокинувшей коллекцию монет в библиотеке. Она написала о свекрови, с которой вместе ходила в церковь на Рождество. Она написала о снеге. Но когда она задумалась о снеге, пришли сомнения. Все написанные предложения обвиняюще уставились на неё, показав ей их пустые ужасные лица. Это же произошло в библиотеке нумизматики, хотела оправдаться она, но предложения были безжалостны. Всё те же наивные выдумки о Марте. Да брось ты! Кричали они. Опять про снег! Глумились они. Всё же она решила продолжить писать историю о свекрови и Рождестве – ей нравилась идея. Обсудить колени в церкви казалось ей замечательным решением, дающим ей преимущество.
Во время проповеди я закинула ногу на ногу. Меня это обеспокоило, написала она. Однажды, обедая в ресторане в Берлине, она села рядом с мужчиной, который зарабатывал на жизнь, переводя американские детективы для немецкого издательства. Его уволили. Не смог подобрать цензурный аналог к «закинула ногу на ногу». Могло ли это произойти на самом деле? Она тщательно рассматривала свои ноги, свои коленки в чёрных чулках. Оглядевшись, она увидела, что никто больше так не сидел. В церкви это хоть кого-то беспокоит? Неужели все они знают правила? Появились ли они до того, как я пришла сюда? Почтительное поведение в церкви обезличивает. Роль чьей-то невестки тоже. Я всегда воображаю себя на ходу (Сартр). На Рождество ей подарили книгу об экзистенциалистах, людях, осуждавших обезличивание, у которых правила вызывали тошноту. Она закинула не ту ногу? Или проблема в самом закидывании? Прямые линии предпочтительнее наклонных? Почему мы говорим, что преступники «катятся по наклонной»? Она вспомнила, как изучала Пифагора в школе. Ранний философ. Не экзистенциалист. Он разделил все вещи в мире на две категории. В одну он записал Доброе, Мужское, Светлое, Ограниченное, Прямое, Точное, в другую – Злое, Женское, Тёмное, Безграничное, Наклонное, Потерянное. В правилах – страх. О, Елена Троянская! Её надо было выпрямить? Вряд ли! Любой может прикончить девицу, любой из нас может, хочет, должен, говорил Суини.
Сартру бы понравился Суини. В правилах – страх, в предложениях – глупость. Застарелая ненависть к женщинам и лживость, возникшая ещё во времена Пифагора, теперь упакована в глупые предложения, она видела их гигантским жерновом, перемалывающим день за днём историю, философию и литературу. Внезапно она подумала, как Марта опрокинула тогда коллекцию монет в библиотеке нумизматики. Ничто не звенит так, как падающие монеты. Нумизмат пришёл в ярость. Марта посмеялась над ним позже, но тогда она не смеялась. Её мать тогда лежала в палате интенсивной терапии, в городе в нескольких милях отсюда, оправляясь после девятичасовой операции. Или умирая. Врачи были молчаливы, медсёстры – напряжены. Марте хотелось, чтобы нумизмат об этом знал. Тогда бы он утешающе погладил её по руке. Тогда она бы не плакала на лестнице.
Однажды они с Мартой поехали в Грецию на международную писательскую конференцию. Там она отреклась от писательства. Вместо этого она стала делать наброски в блокноте, который гордо озаглавила «Стакан воды», словно именно это было то, что все искали, стакан воды в Греции, а вовсе не принципиально новый роман или не-глупые предложения. Наброски были немного мультяшные, но очаровательные. Вот стакан воды поднимается по лестнице вместе с русским поэтом. Или захвачен в плен турецким романистом (который разлил воду в два стакана). Или прячется от испанского писателя за горой тостов на обеденном столе. Ей было тяжело нарисовать тосты со стороны. Зато рисовать перуанского поэта, который утверждал, что записал на кассету, как лама пьёт воду из стакана, было весело, ведь она уже знала, как рисовать лам. Кассета, однако, оказалась почти пустой. Тем временем, бывший нобелевский лауреат из Ирландии видел, как стакан был поднят (Сэмюэлем Беккетом в баре), он всё повторял, что для этого нет подходящего местоимения. Поэт из Сербии потерпел крушение. Он не встретил сочувствия. Он ведь даже не пил воду! В последний день все писатели нарядились «совами Афины», воспоминание не стереть из памяти. Превосходный набросок. Их абсолютно безумные автографы. Она и Марта, как мы говорим после отпуска в Греции, многое узнали. Как оказалось, они не могли ужиться друг с другом из-за несходства характеров. Сейчас это вызывало у неё лишь слёзы. Впрочем, она не была до конца уверена, что это были за слёзы. Она открывает блокнот «Стакан воды» на последней странице. На нём изображены опустевшие балконы отеля. Кто-то нацарапал «5 утра» на обороте, а внизу страницы - «Вот и наступило завтра» и множество синих и зелёных штрихов, которых она не помнит.
Anne Carson “Flaubert Again”
Objects would suddenly fall or fall apart, cars go off course, dogs drop to their knees. The Army was doing sound experiments at a nearby desert in those days. I was nervous all the rest of my life, she wrote. She was a novelist and enjoyed some success. But always she had the fantasy of a different kind of novel, and although gradually realizing that all novelists share this fantasy, she persisted in it, without knowing what the novel would be except true and obvious while it was happening. Now I’m writing, she would be able to say.
She broke off.
Where would you put a third arm? is a question asked in creativity-assessment tests, or so I have heard. Will this different kind of novel be like that, like a third arm? I hate creativity, she said. Certainly not like a third arm. It would be less and less and less, not more. Barthes died, he never got there. She named other attempts—Flaubert, etc. Other renunciators, none of them clear on what to renounce. This chair I’m sitting in, she thought. Its fantastic wovenness, a wicker chair, old, from the back porch, brought in for winter. Me sitting here, by a lamp, wrapped in a quilt, beside the giant black windows, this December blackness, this 4:30 A.M. kitchen as it reflects on the glass. The glass too cold to touch. The loudness of the silence of a kitchen at night. The small creak of my chair.
To be a different kind of novel, it would have to abolish something, abolish several things—plot, consequence, the pleasure a reader derives from answers withheld, the premeditation of these. Abolish, not just renounce them. To renounce is weak, reactive, egoistic. If she were ever really writing, the writing would pull her down into itself and erase everything but her decency. She would correspond at all points to her story, but her story would not be a story of Heaven, Hell, chaos, the world, the Trojan War, or love. It would just tell itself. It would have no gaps, no little indecent places where she didn’t know what she was talking about. Because, she wanted to say, it would be a story of nothing and everything at the same time, but by now, while only dimly realizing that she was more or less quoting Flaubert’s famous 1852 letter about “a book about nothing” that everyone quotes the first time they have this idea, she knew that she had lost it, the murmur, the trace, the nub where it was her own (whatever “own” means in a world where it is also “again”), and she was forfeit, foolish, flailing, inexact, and rattling on—it had eluded her. It let me go! I cannot bear to be let go, clenched in my quilt, a phantom receding, it rustles off, the dawn barely blueing the air, the static stopped.
Chilled and stale as the old night itself, she stood up and folded the quilt, wishing that she were hungry, but she was not, wishing that she were the kind of person who took baths, but, as a rule, she did not bathe. Part of the reason for this was that at the exact moment of lowering her body into boiling-hot water, for a split second, this always happens, she is five years old again and it is Sunday night and she is horrified. Horrified why? She doesn’t know. School on Monday? But she did not dislike school. Or maybe she did at first. Not later. At any rate, there is a rolling, all-pervasive upwash of dread, one great, hot, shooting surge of dread-sensation through mind and body, a sense—perhaps?—of Time, carrying a body from Sunday night to Monday morning, to every Monday morning after that, and on and on, willy-nilly, to extinction, a mountainload of moments forcing the body from now to then, from drab to drab, from exposure to exposure, this progress, this exasperating, non-negotiable, obliterating motion forward into the dark—the dark what? Was a body (at age five) too new for it? Could it be saved from it? Whom to implore? What enemy forces, where? And what about the sheer searing thrill of it—boiling-hot bathwater—this could not be denied: a brilliance shot up through it, and the body fairly sang. Then it was gone. She took the shock as a lullaby and did not expect anything different. When does that begin, the expecting anything different? Is there a childhood sublime? Does it end where expectation begins? For the sublime is punctured by egotism, by the rapt, hard, small beak of my self demanding to be me. My self finding the words for that. If I can find the words I can make it real, she thought, and that was when she sat down to be a writer.
At first, the energy required for using her new beak obscured anxieties or questions like What to write? and Who cares? She wrote about her friend Martha, who’d knocked over a pile of coins in the library. She wrote about going to church with her mother-in-law on Christmas Day. She wrote about snow. It was while she was writing of snow, in contemplation, that doubt seeped in. And all her sentences turned their blank, awful faces to her in blame. It was the numismatics library, she wanted to say to them, but the sentences did not show pity. The same old faux-naïve stuff about Martha. Oh stop! they cried. Snow again! they scoffed. She went on awhile with the mother-in-law-on-Christmas-Day story anyhow—she liked that one. To comment on knees in church had seemed a bright idea, a bit of an edge.
During the sermon, I crossed my legs. It worried me, she wrote. Once, in Berlin, at dinner, she’d sat beside a man who made his living translating American crime fiction for a German publisher. Got fired. Couldn’t find a non-obscene German equivalent for “she crossed her legs.” Could this be true? She studied what she could see of her own legs, two knobby knees in black tights. Glancing around, she saw that no one else had crossed theirs. Places like church—does everyone worry? Does anyone know the rules? Were the rules discussed before I came in? Being respectful in church is a matter of impersonation. Being a daughter-in-law is, too. We all impersonate people who know the rules. I am always making myself up as I go along (Sartre). For Christmas, she’d received a book on the existentialists, people who denounced impersonation, people who said they were nauseated by rules. She crossed her legs in the other direction. Is crossing itself the issue? Are straight lines ethically preferable to bent lines? Why do we call criminals crooks? She recalled studying Pythagoras in school. Early philosopher. Not existentialist. He made a list of everything in the world in two columns. He put Good, Male, Light, Limit, Straight, Accurate in one column, on the right, and Evil, Female, Dark, Unlimited, Bent, Lost in the other, on the left. There’s fear in rules. Oh, that Helen of Troy! Straighten her out? Not likely! Any man might do a girl in, any man has to, said Sweeney.
Sartre would have liked Sweeney. There’s fear in rules and stupidity in sentences. All the old hatred of women and crookedness since Pythagoras’ time having got packed down into stupid sentences, she saw it as one big grindstone grinding through days and nights and history and philosophy and novels. She thought suddenly of Martha in the numismatics library, knocking over a pile of coins. The sound was like coins, there is nothing else that sounds like that, being knocked over. The numismatist glared. Martha laughed later but not at the time. Her mother was in the I.C.U., in a city some miles away, recovering after a nine-hour surgery. Or not recovering. The doctors were vague, the nurses overworked. Martha wished the numismatist could know this. He might have taken Martha’s arm. Martha might not have wept in the stairwell. Once, she and Martha had gone to Greece together, to an international writers’ conference. While they were there, she’d renounced writing. Instead, she made sketches in a sketchbook and titled it “The Glass of Water,” as if that were what everyone was looking for, a glass of water in Greece, not a different kind of novel or some not-stupid sentences. The sketches were a bit cartoonish but loving. We see the glass of water disappearing up the stairs with a Russian poet. Or gripped fast by a Turkish Cypriot novelist (who has poured it into two glasses). Or lost by a Spanish writer behind a mountain of toast at the breakfast table. She found toast difficult to draw convincingly, from a side view. Drawing the Peruvian poet, on the other hand, who claimed to have videotaped his llama drinking from the glass of water, was a joy, as she already knew how to draw llamas. The videotape was mostly blank. Meanwhile, the former Nobel Prize winner from Ireland had seen the glass of water being hoisted (by Samuel Beckett in a bar), and there was no pronoun for that, he kept saying. The Serbian poet fell off the bus. He got no sympathy. He never drank water! Then finally all the writers in their “owl of Athena” costumes on the last day, an indelible memory. An excellent sketch. All their crazy signatures. She and Martha had, as we say after vacations in Greece, learned a lot. They had found sharing a hotel room fairly unbearable due to their very different temperaments. It brings tears to her eyes now. She isn’t sure what kind of tears they are. She opens the “Glass of Water” sketchbook to the last page. It is a drawing of empty hotel balconies. Someone has scrawled “5 A.M.” on the side of the page and at the bottom, “Already tomorrow is here,” with a bunch of green and blue marks she can’t remember making.