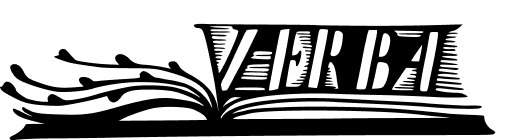***
Что я вам напишу? что расскажу нового,
ещё неизвестного, нерассказанного?
Ф. М.
Теперь все подлежит критике, даже сама критика.
Белинский
Школа литературной критики имени В. Я. Курбатова в уходящем году состоялась в четвёртый раз. Отбор участников, по сведениям организаторов, оказался особенно трудным – на конкурс поступило рекордное число работ – из полутораста соискателей в Ясной Поляне встретились девятнадцать. Среди двух десятков счастливцев – «пишущий эти строки». В начале лета, отправляя на суд экспертов свои записки о толстовском творчестве, толстовстве и русских символистах, я поощрял себя мыслью, что «попробовал», «попытался» («попытка, как известно, не пытка»), «экзаменовал» себя и...
...Доро́гой из Карелии в главные собеседники я выбрал графа Льва Николаевича – путь длинный, света вдоволь (уже второй месяц, как потемнели ночи, но всё-таки лето!), первые страницы «Анны Карениной» промчались быстрее фирменного двухэтажного. Дальше – убранный в леса Ленинградский вокзал, метро, кондитерская, привычное место встречи семинаристов. Беглое знакомство, автобус, вечер, лампионы...
В Ясной Поляне я оказался впервые – и оттого вдвойне «жадно» впитывал окружающий мир: тишину и свежесть воздуха, широту и гостеприимную щедрость пространства; угадывал («вычувствовал») в редких дуновениях гений места. Отчего-то такой я воображал её, читая главы Болконского из романа Л.Н., похожей на Лысые горы.
Семинарские дни сменялись в мгновение ока – «уплотнённые», «летучие», увлекательные, неуловимые, ослепительно знойные... (Погода жаловала.) Словоохотливость оставила – всё больше слушал и «мотал на ус», прилежный ученик. Местная книжная лавка порадовала обилием редких и соблазнительных филологу томов, однако на вдумчивое чтение времени не находилось.
Оказавшись в семинаре литературоведа Дмитрия Бака, вместе с коллегами попытался выяснить, зачем Глеб Шульпяков, автор книги «Батюшков не болен», обратился к событиям двухсотлетней истории; почему его герой, вологодский затворник Константин Батюшков, не болен; чем сочинение поэта о поэте отличается от учёных жизнеописаний. (Некоторые итоги моих размышлений см. в настоящем номере.)
Разговор о Константине Николаевиче Батюшкове, быть может, самом таинственном поэте «золотого века», начался задолго до семинарского заседания – и вылился в беседу о судьбах классической русской поэзии – и о становлении поэзии новой.
Первый вопрос, заданный Дмитрием Петровичем участникам семинара, заставил призадуматься: любимое стихотворение К. Н.
...я помедлил и ответил: «Тень друга», «Умирающий Тасс» и (нечаянно для самого себя) «Вакханка». Песнь элегической скорби, величественный гимн неминуемой вечности («Земное гибнет все… и слава, и венец… Но там все вечное, как вечен сам Творец...») – и утверждение жизни в мимолётном восклицании «Эвоэ!» слились в моём образе поэта. Мой Батюшков весел и лёгок, жизнелюбив (в солдатской шинели, на костылях, и с щегольской буклей, каким запечатлел он себя в рисунке тушью) – и печален, поскольку сознаёт чутким умом быстротечность и предельность жизни-загадки:
Ты знаешь, что изрек,
Прощаясь с жизнию, седой Мельхиседек?
Рабом родится человек,
Рабом в могилу ляжет,
И смерть ему едва ли скажет,
Зачем он шел долиной чудной слез,
Страдал, рыдал, терпел, исчез.
(1821)
Эти стихи на границе «страны теней» написал автор «Моих пенатов», сладкоречивый затейник, «русский Парни», создатель прелестной антологии «эллинской» и горацианской лирики...
...Как поэт прожил бо́льшую половину жизни? О чём думал в минуты просветления памяти, если они случались, какие тени посещали его и чьи лица окружали в годы душевной «темноты»?.. Нам неизвестно – и тем охотнее воображение пускается в разгадывание этой тайны, умолчания, в котором «канонический» образ Батюшкова-эпикурейца, наследника анакреонтической традиции Державина и Дмитриева, отождествляется с образом автора поздних признаний:
...Я просыпаюся, чтобы заснуть,
И сплю, чтоб вечно просыпаться.
(1853)
Свой образ поэта как многоликого единства, души, «очищающего себя до себя», предложил Дмитрий Петрович, обнаружив в оде Батюшкова «Бог» эхо ломоносовской торжественности и предвестие метафизики Баратынского:
...Хочу постичь Тебя, хочу — не постигаю.
Хочу не знать Тебя, хочу — и обретаю.
(1803)
Книга Глеба Шульпякова получила разнообразные оценки и несходные толкования.
Пожалуй, всех эффектнее к делу подошёл Сергей Лебедев, самый щедрый из моих собеседников, «бывалый» семинарист Школы, сочинил остроумный водевиль, первой строчкой пародирующий гоголевскую комедию: «Я пригласил вас, господа, с тем чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие: Батюшков не болен…»
На этой весёлой ноте, сочувственной духу молодого Батюшкова и его насмешливого приятеля Вяземского, разговор о книге и её герое завершился.
Напутствуя молодых любителей поэзии, Дмитрий Петрович обратил нас к Лидии Яковлевне Гинзбург и её прекрасной книге «О лирике». В самом деле, труд Л. Я., вероятно, лучшее исследование истории русского поэтического искусства.
Помимо группы Д. П. Бака в Школе работали семинары А. Варламова, П. Басинского, В. Отрошенко. Авторским семинарам предшествовала программа выступлений и мастер-классов от ведущих экспертов российской литературно-критической культуры.
Вводная лекция Дмитрия Петровича, прочитанная в беседке, едва прикрывающей от необыкновенно щедрого солнца, познакомила слушателей с генезисом, эволюцией и судьбой литературно-критической мысли в царской, социалистической и послесоветской России.
Современные тенденции, тренды, «моды» в области литературно-критического творчества раскрывали практикующие критики: Наталья Ломыкина, радиоведущая, колумнистка издания Forbes, напомнила три главных вопроса, на которые должен ответить рецензирующий автор: о чём книга, что ты (как критик) думаешь о ней – и стоит ли её (нам) читать?
Иван Родионов, семинарист предыдущей Школы и мастер в нынешней, рассказал, куда молодому критику пойти, куда податься на поприще литературы, с чего начать и как утвердиться в профессии.
Состояние и перспективы книжного рынка в России и мире осветила в специальной лекции Татьяна Соловьёва, главный редактор издательства «Альпина. Проза», а литературные обозреватели Максим Мамлыга и Евгения Власенко в авторских мастер-классах учили молодых критиков ориентироваться в медиасфере и осваивать новые форматы диалога с читателем.
Серьёзные разговоры о книгах естественно перетекали в застольные беседы и прения обо всём — от заграничных эскапад Эдуарда Лимонова и «маньяках» классической русской словесности до проблематики последнего романа Мишеля Уэльбэка и завидного или не очень жребия «толстых» литературных изданий в наш быстротекущий, порой слишком стремительный век, о литературном каноне и его состоянии в наши дни...
Один из множества дискуссионных вопросов: чем объяснима особенная востребованность исторической прозы? Турбулентностью, переходностью всемирной эпохи, когда ответы на животрепещущие мысли ищут, оглядываясь вспять? Необходимостью осознать предпосылки современности – и предугадать, куда завтра обратится маховик времени?..
Кулуарные споры и толки начинались за утренней трапезой и продолжались далеко за полночь: за общим столом — писатели, поэты (авторы и герои!), критики «старой» и «новой» школы. Значим каждый голос и всякое мнение ценно, любой опыт уникален и тем интересен. Замечательные разнообразием тем, предметов, стилей и позиций, эти разговоры создавали атмосферу непрестанно работающего интеллектуального тигля, выплавляющего новую российскую книжность.
Подмосковные вечера с аккордеоном, гитарой, мгновенно созданным хором яснополянских гостей: Соловьёв-Седой, Пахмутова, Блантер, Мокроусов, Чайковский, Визбор, Цой, Окуджава; классика русской и советской песни, шлягеры, народные мотивы и старинные романсы – музыка, слово, мелодия роднила и трогала душу, августовская, как-то вдруг находящая ночь сближала в островке уютного света.
Видно, стараниями толстовского гения места в нашем установился дух подлинного «пантагрюэлизма» – мудрого, здорового, живого веселья, остроумной и озорной доброжелательности, того, что мы сегодня называем душевностью.
(Недаром за последним ужином в Ясной Поляне то и дело вспоминали Франсуа Рабле, гениального насмешника и грустного доктора, его великий роман и блестящую интерпретацию книги, поставленную на сцене К. Богомоловым.)
Заветная мысль Владимира Ильича Толстого сбылась: гости сплотились в по-толстовски большую и разнообразную семью. Трудноодолимая робость (и вместе странное, новое оцепенение души) понемногу отпускала – и вот уже сплетается мысль, «горит во взоре», завязывается и крепнет дружба, вызревает ответное слово, и радует интерес в глазах собеседника, любопытство: «что за поэт Юрий Линник?..»
Приятным дополнением к программе основных семинарских занятий стало приглашение семинаристов к участию в Писательских встречах, проводимых музеем-усадьбой «Ясная Поляна»: беседы с авторами, чтения прозы и любопытных докладов под яснополянскими липами, в прохладе риги: что снилось Льву Толстому на тургеневском диване? Каких букашек любил и каких не жаловал автор «Воскресения»?.. Как дремал разум Достоевского и его героев? И почему современный прозаик охотно (или неохотно) ныряет в онейрическое пространство?
Среди гостей и лекторов – Леонид Абрамович Юзефович, будущий лауреат премии «Ясная Поляна» 2024 года за роман «Поход на Бар-Хото», Владимир Березин (автор романа «Уранотипия», 2024), Евгений Водолазкин, Наталья Илишкина («Улан Далай. Степная сага», 2023), Антон Секисов («Комната Вагинова», 2023), Светлана Павлова («Голод», 2024), Максим Замшев, Игорь Волгин и другие.
...Дубы, помнящие макушку самого Льва Николаевича, аккуратные флигельки, гурты, конюшни, лавочки в липовой сени – и, наконец, барский дом, приземистый и элегантный. Портреты толстовской фамилии, полки с тысячами переплётов: Генри Торо, Диккенс, Гончаров и Эмерсон. Диван, «принявший» в свете новорожденного Лёвушку, – и проходная комната, куда бесконечной вереницей стекался народ, чтобы поклониться гробу великого писателя. Вещи говорили – подхватывая живое слово Владимира Ильича, проводника и представителя в родовом гнезде своих предков.
В самом деле, душа русской литературы если где-то сосредоточена, то в этом благодатном месте. Пресытиться радушной сенью яснополянских аллей едва ли возможно. Разгуливая немногие свободные минуты, в день рождения яснополянского старца (по старому стилю) я посетил его могилу – укромный холм в усадебной роще, среди дубов, осин и лип, будто под сводами природного собора.
Задумавшись о чём-то важном, о чём обыкновенно мы размышляем, обозревая свою или чужую судьбу, опоздал к отправлению – и возвращался пешком, всё время схватывая эту нить.
...Простившись с Ясной Поляной, на пути в столицу, с молчаливого согласия моей компаньонки А., тоже заядлой читательницы, я возвратился к «Анне Карениной», к странице, заложенной почти неделю назад, в электричке Московского метрополитена. При всей симпатии к Левину, мысль отрешалась от его перипетий и рефлексий – и опрометью бросалась назад, к ослепительно лучистому пруду, «прешпекту» князя Николая Волконского и огромной беседке с длинным столом – туда, к пережитому, к тому, что всегда со мной. Условившись о «молчании», мы, два книголюба, проговорили пять часов – и нам этого было мало.