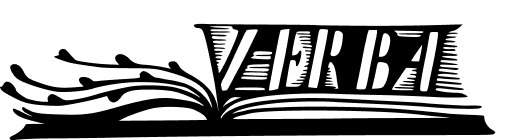***
Мёртвый мальчик живую девочку напугал, да?
М. Елизаров. «Pasternak»
Роман Михаила Елизарова «Pasternak» «вышел на дебют» в 2003-м году — тогда «строчки с кровью» действительно нахлынули горлом и почти убили литературную карьеру молодого писателя. Сегодня, когда от публикации романа нас отделяет 21 год, пора бы взглянуть на текст уже признанного большого русского писателя с новой стороны.
С новой, потому что мы не станем касаться политического аспекта текста — уподобляться людям, которых «художественные достоинства романа вообще не потрясают» мы не имеем желания, причем ввиду банальных причин — его уже разобрали все мэтры русской литературной критики; если что и следует упомянуть, так это то, что роман Елизарова, как нынче модно выражаться, «интересно состарился» — 20 лет назад история совместной борьбы православных и языческих браво против Запада казалась «насилием автора над историей» — в наши дни она представляется поистине пророческой.
За политической красной тряпкой «романа-скандала» эстетический план содержания был похоронен и забыт, как вещь вторичная и эпигонская — данное Львом Данилкиным определение автора как «младо-Сорокина» следует за Елизаровым неотвязно, хотя уже в «Pasternak’е» явно прослеживалась связь с совсем другим автором и иным литературным течением — с Андреем Платоновым и писателями-деревенщиками.
На платоновское влияние указывает вся первая глава первой части романа — повествование о детстве заглавного героя, Василька (Василии) Льнова написано с явной оглядкой на «Никиту» как в синтаксическом (оба текста сближает особый язык детской советской прозы), так и в содержательном плане — обе истории о мальчике в живой деревне (живой из-за фантазии в случае Платонова, и настоящих духов в случае Елизарова), что научился своими руками «перековывать» в добро — только если Платонов видит надежду в завтрашнем дне и дает возможность своему герою принести в мир «доброго человечка», то Елизаров такого выхода не видит — лишь огненным освобождением от «пень-головы» можно спасти себя и мир. Так Василек обращается в Василиска Льнова и вступает на тропу войны.
Смысловой заряд деревенской прозы разрывается в тексте лишь на контрасте, для которого Елизаровым была подготовлена твердая почва — между не связанными с сюжетом прологом и эпилогом диалектически располагаются три части — история язычника Льнова («Деды»), священника Цыбашева («Отцы») и их общая борьба с демоном («Pasternak»). Первые две части полностью повторяют друг друга на композиционном уровне — они рассказывают о детстве героев, их взаимоотношении с родителями и первой встрече с пастор Наком; несут основную философскую идею, формирующую героя (рассуждение о душе деда Мокара и литературе — отца Григория); включают два вставных рассказа о помощниках (если не «волшебных помощниках») главных героев («Красная пленка» и «Стать отцом»), сцены борьбы с сектантами и завершаются поражением в битве с оккультным противником — Льнов не добивает монстра, Цыбашев — моржа-ивановца (что символично, и тот, и другой противник уходит от преследования по воде). При всей схожести биографий, их истории представляют собой тезис и антитезис, суть которого окончательно раскрывается только в снятии 3-й части; в различии судеб русских инквизиторов и кроется влияние деревенщиков — язычник Льнов, лучшую часть своей жизни проживший в деревне, воспринимающий деревенских как своих близких, в вечном контакте со своими даже умершими предками единственный остается в живых под конец романа, и, возможно, довершает дело борьбы с Шамбалой; Цыбашев же отравлен городом и слабостью отца, который не способен преподать сыну пример борьбы со злом, будучи сам пропитанный «трупными» стихами Пастернака. Связь поколений рушится — родители принимают, но не одобряют выбор сына стать священником. То же касается и помощников героев, Любчинева и Нечаева — первый утратил связь со всем внешним миром, когда ушел в затворники, а второй нарушил родственность, когда стал отцом для своего отца: полная победа над смертью в духе философии Николая Федорова совершается лишь в случае Льнова говорящим о Ирии теле мертвого деда Мокара (патрофикация в чистом виде) и «охороном» — тайным искусством выживать в любой битве, следуя принципу «кто не боится помирать, тот и не сможет помереть».
В оппозицию основной части встают пролог и эпилог — небольшая история докторов-пастернаковцев находится в сильной позиции начала и конца романа и представляет другую сторону истории борьбы с оккультизмом. Она выворачивает наизнанку ключевой текст Пастернака, «Доктора Живаго» — Живой Доктор устраивает темное причастие с искалеченными, ожившими трупами в прозектории, стихами возвещая о своей мессианской природе — мрачная постмодернисткая картина, прерывающая реалистическое повествование о практике студентов-медиков. Здесь гениальная метафора Мишеля Турнье о книгах-вампирах последним аккордом мрачного стиха встраивается в парадигму восприятия текста Елизарова, представляя читателю на суд Живаго-антихриста.
Раз эта статья написана, значит, суд еще идет.