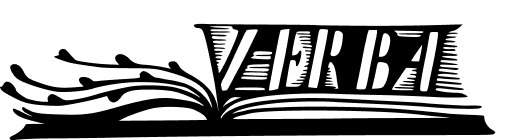***
Привык я брести наугад:
Каждый путь куда-то ведет. Все наши радости и все печали –
Лишь прихоти блуждающих огоньков судьбы.
В. Мюллер, пер. с нем. О. Митрофанова
Рассказ в современной литературе, что называется, «не правит балом». Более двухсот лет, со времён Стерна, Гюго, Достоевского и Диккенса, его величество роман сохраняет статус безусловной доминанты литературного ландшафта. Роман, а не рассказ, очерк или новелла. Культура двадцать первого века («галактика мультимедиа», по М. Маклюэну), невзирая на всё возрастающие темпы обмена и громадные объёмы ежедневного потребления информации, всё же эту иерархию сохраняет.
Жауме Кабре известен российскому читателю последнего десятилетия прежде всего хроникой «Я исповедуюсь» (рус. пер. 2015). За этой предельно откровенной книгой последовало пять романов, в каждом из которых автор поверяет свою формулу противления смерти: музыка + любовь + слово = (вероятно) бессмертие.
Формула, возможно, наивная, слагаемые вполне обыкновенны, однако в прозе Кабре вера в силу этих начал утверждается упорно, раскрываясь порой в неожиданных решениях.
Жауме Кабре (исп. Jaume Cabré i Fabré, род. в 1947) принадлежит к тому поколению испанских прозаиков, которое сформировалось ещё во времена диктатуры Франциско Франко (1936-1975), но уже не знало серьёзных цензурных преследований. Представители этой литературной генерации в основном знамениты своими романами (в России наиболее популярны старшие современники Кабре – братья Луис и Хуан Гойтисало) и объединены, помимо антифранкистского пафоса, языком их произведений – каталанским.
«Зимний путь» (рус. перевод: «Иностранка», 2023) — первый опыт новеллистики писателя-романиста, и опыт непростой. О трудных взаимоотношениях с малой прозой Кабре рассказал в послесловии к сборнику. Работа над новеллами шла параллельно медленному возведению романов, тексты находились в состоянии «диффузии», взаимного проницания и обогащения, иногда полностью поглощая один другого.
Считая себя прежде всего романистом, Кабре скромно отказывает себе в новеллистическом даровании.
Сколько бы писатель себя ни ругал, всерьёз прислушиваться к его самокритике мы, разумеется, вовсе не обязаны.
Мастерство Кабре-новеллиста, на наш взгляд, заключается не только в виртуозном выдумывании сюжета (с обязательным соблюдением новеллистической напряжённости, динамичности действия, неожиданности развязки и т.д.), но и в умении ёмко, точно и убедительно ярко написать характер в двух-трёх очертаниях, будь то сумасбродный музыкант, утративший самообладание, «окаянный» мальчик, волею рефлекса оказавшийся виновником немыслимых бедствий, череда лиц и жизней, схваченных в суетной круговерти городского переулка, унылые обитатели военной тюрьмы или жители ренессансной Европы.
Умелый романист, увлекательный и красноречивый рассказчик, Кабре и в камерных вещах сохраняет разнообразие интонаций, точность слова, превосходно выдерживает пружину интриги. Стиль Кабре узнаваем и в малой форме — удивительная новизна, свежесть, изобретательность остаются неизменными отличиями его прозы.
Арсенал технических приёмов Кабре необычайно вместителен. Работа с повествовательными формами популярной литературы (детектив, триллер) и обращение к прустовскому «потоку сознания», озорная игра с лицами повествования и проворные фокусы с «материей времени», сжимаемой в зерно и расплетаемой до бесконечности.
Не однажды о творчестве Кабре писали как о попытке объясниться в любви музыке на языке литературы. Отчасти это наблюдение верно.
Оттого акт музыкального творчества — исполнительского или композиторского — в рассказах Кабре подобен священнодействию, будь то последнее сочинение лейпцигского гения — Баха — или завершающий номер «выгорающего» на сцене пианиста, посвящённый пресущему мертвецу, автору «Неоконченной симфонии» и наиболее пронзительной версии молитвы «Ave Maria».
Фигура романтика Шуберта – связующий образ книги, почтенная тень, странствующая из сюжета в сюжет, а его «Зимний путь», музыкальная хроника последнего, отчаянного паломничества, обнимает новеллы Кабре белой виньеткой.
Однако проза Кабре не только населена великими тенями, усеяна музыкальными аллюзиями, наполнена жителями музыкального мира и особыми его знаками; проза Кабре сама по себе замечательно музыкальна. Постоянны в ней приёмы метризации, особого интонирования фразы, напоминающие опыты Андрея Белого и Алексея Ремизова в русской литературе, Джеймса Джойса и Вирджинии Вульф – в британской. Ткань её в обилии украшают музыкальные экфрасисы, блестящие описания музыкального текста средствами слова[1].
В новеллах «Зимнего пути», как и в романах, узнаваемый голос автора контрапунктом сочетается с партиями его персонажей, то уходит в аккомпанемент, то принимает мелодию.
Убыстрённый или, напротив, замедленный темп его фразы служит вполне определённым целям: ритмическими и интонационными перепадами добиться эффекта сбивчивой речи воспалённого, помешанного ума («Свист»), воссоздать внутренний монолог до взрывоопасности обиженного нарцисса («Finit coronat opus») или «заочный» разговор двух тяготеющих одна к другой душ («Пыль»).
Рассказ «Пыль» — из наиболее «книжных», «библиофильских» работ писателя. Каталог позабытых или полузабвенных собратьев послужил наблюдающим фоном обоюдоробко зреющего чувства — молодой неискушённой души и усталого, пресыщенного ума. Почти мелодраматическую повесть оживляет неизменный юмор Кабре. В меру насмешливый и никогда не доходящий до цинизма, он блестяще соблюдает баланс молодцеватого острословия и профессорской серьёзности.
Заглавная новелла книги — «Winterreise», «Зимний путь» — повторяет название знаменитого сочинения Франса Шуберта.
Песенный цикл, написанный на стихи Вильгельма Мюллера, выстилает извечную повесть об упущенном счастье и мучительной жестокости памяти, любящей сослагательные формы.
Сюжет новеллы не нов и даже типичен. Бунин в «Тёмных аллеях», тоже заглавной миниатюре гениальной книги, решил его, пожалуй, и художественно убедительнее, и драматически «мощнее», и лаконичнее, и «серьёзнее». Впрочем, Кабре и здесь посмеялся над героями – не по-бунински откровенно.
В «Зимнем пути» Кабре, кажется, снова играет с началами драмы — «печальная повесть» в сущности своей комична. Комично бегство незадачливой (а может, попросту глупой) «Джульетты» от нелепого и трогательно несчастного «Ромео», почти карикатурно несчастного.
Подобно герою мюллеровских стихов, «Ромео» Кабре неспособен ни одолеть тяжёлой тоски («сделанного не воротишь»), ни бежать от сардонического «А если...» Он остаётся пленником прошлого и добровольным изгнанником будущего. Он сознательно оставляет жизнь и существует в уныло иллюзорном «там».
Точно так же неспособны одолеть пропасть предрассудочного герои новеллы «Пыль», точно так же злосчастный Исаак «помнит», не в силах забыть. Почти находится с решимостью герой новеллы «Надежда в руках», узник, с которым «судьба сыграла очень злую шутку», но сдаётся, подчинившись сентиментальному, мнимому, сиюминутному утешенью.
Герои Кабре терпят поражение, не имея сил противиться «року». Этому «фатуму», «прихоти блуждающих огоньков судьбы» равно подчинены все, очутившиеся в стремнинах истории.
Так, разрабатывая сюжет плутовской новеллы о хитроумном подлеце («Глаза как бриллианты»), Кабре вольно пересказывает легенду о пресловутом Гуане (на сей раз еврейского имени), обводящем окрест пальца лукавых «искусствоведов» из папской курии, ловко подделывая портреты гениального современника – Рембрандта. Исход «вечного» сюжета (одинаковый и у де Молина, и у Мольера, и у Пушкина – Кабре в этом ряду не исключение) читателю известен.
И всё-таки в игривом обращении с памятью Кабре чуток и осторожен. Память ведь не только сохраняет нам дорогое – она порой запросто становится надзирателем, нашим самым последовательным и упрямым мучителем. Злополучного героя новеллы с «говорящим» названием «Я помню» память заточила в аду, из которого некогда его вызволил случай. В этот навсегда «оттиснутый» в памяти ад страдальца возвращает череда случаев, заставивших его снова и снова мучиться вопросом: «Зачем?..»
От угрызений этой змеи одно есть избавленье, требующее последней решимости.
Решимости переосмыслить опыт, отвергнуть аксиомы в жертву искусства или творческого влечения находят в себе гении – и, нарушив правило, утверждают свои.
Литературный портрет Иоганна Себастьяна Баха писали в своё время В. Ф. Одоевский и Э.-Т.-А. Гофман. Образ композитора был привлекателен романтикам. Могучий, мрачный, мраморно величественный гений.
У Кабре Бах – стремительно умирающий старец, в слепоте физической прозревающий духовно – последним усилием, с последним долгом. Это почти ветхозаветный герой.
В новелле «Сон Готфрида Генриха» Бах изобретает новую гармонию – находит её в языке умалишённого сына, чьими устами, по-видимому, глаголет гений. Однако новая гармония, услышанная, пойманная безумцем, немыслимая в эпоху классического контрапункта, «воскреснет» в ХХ веке, во времена радикального слома устойчивых представлений о музыкальной эстетике.
«Шум времени», услышанный в своё время Мандельштамом, Кабре различает не только в «чудовищной» фуге Готфрида Генриха или фортепианных концертах «выгоревшего» пианиста Пере Броза («Посмертный опус»). Шум времени наиболее отчётливо слышится в какофонии мыслей, разговоров и умолчаний, разбросанных в нескольких на мгновение скрещенных жизнях («Пара минут») и – пунктиром, морзянкой – в жуткой безнадёге день от дня отлагаемой свободы («Надежда в руках»).
Вместе с писателем и мы вслушиваемся в этот шум – в изящные каденции, мудрые аккорды и печальную тишину жизни.
Рассуждая о природе и назначении рассказа, Кабре заключает:
«Писатель должен оттачивать своё мастерство, но и читатель тоже. Писатель преподносит ему поле действия, предыстории, пейзажи, атмосферу, а читатель дополняет их своим прочтением. И поскольку физически невозможно всё вместить в рассказ, эхо, которым они отзываются, воспоминание о прочитанном... дополняет для читателя духовную составляющую каждого рассказа, если она там есть» (пер. А. Гребенниковой).
Проза Кабре резонирует с историей и отзывается в современности, она всегда – разговор с прошлым, которое становится общим прошлым автора и читателя. Время то убегает, то настигает ужасающим знанием, оседает в пыли непрожитых жизней, оно тягуче, скрипит и плачется, или, напротив, стремительно, неуловимо и бесстрастно.
Оно многословно – или скупо. Оно многолико. Почувствовать время, наметить век и «поймать мгновенье», объединить в нём личное и всечеловеческое пытается литература. И ей это удаётся.
[1] См., например, в романе «Тень евнуха».