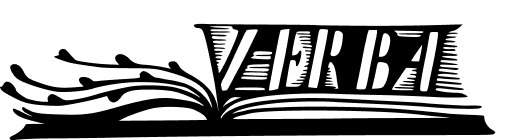***
Давно хочется мне записать: почаще смотрите на звезды.
Павел Флоренский
Ваня сидит на дне колодца и закидывает удочку вверх. Черное небо настолько маленькое, что вмещается в ободок из каменных бортиков. Сверху плавает десять звёзд. Ваня пытается выловить одну, восьмую. Из глубины всплывает жаба. Ваня спрашивает у жабы: «Почему ты здесь?». «Потому что я здесь имеюсь». «Ты почему здесь имеешься?». «Здесь тихо и мокро. Нам, жабам, приятно существовать в таком климате». «Почему ты существуешь?» – эхом разносится внутри толстых стен и замолкает в полумраке колодца, так и не вырвавшись за его пределы. «Ноги нужно держать в тепле, иначе простудишься». «Но я хочу поймать звезду». Ваня ковыряет ногтями бетонные стены, на гладкую воду падают пыльные сгустки.
«Скажи, жаба, как мне достать звезду?». «Звезда не клюнет на пустой крюк. Нужна нажива». Ваня роняет крупные соленые слезы, разрушая отражение ночного неба. «У меня не имеется ничего. Мне никогда не достать звезду». «Цикл завершен» – торжественно провозглашает жаба. Ваня душит жабу в маленькой ручке и насаживает ее на крючок. Ваня закидывает удочку вверх. Леска срывается под тяжестью наживы. Из-под воды всплывает мертвая жаба. Ваня хватает глазами небо. Оранжевый свет заполняет бездонное колодезное нутро. Рассвело. Ваня вздыхает: «Опять не клюнула». Ваня не ловит звезду и в очередной раз скрывается под мутной водой.
***
Осенью в деревню пришла тишина. Такая тишина сердито стонет, пятится вдоль улиц, забивается в каждый угол, вгрызается в кости, пытается достать до самого сердца. Такая тишина всегда означает, что кто-то умер. В этом ноябре снова умер человек, не дожив до семидесяти девяти лет. Тишина его забрала, зловещая для живого, для него она была желанная, сладкая; она укутала его, сберегла от болезни, от боли, от угасания.
Он ушел, и жизнь в деревне остановилась, из-за смерти и от приближающихся морозов. Старики почти не выходили из домов, натопленных до отказа, дымоходы безустанно пыхтели, превращая прозрачный деревенский воздух в едкий густой дым. Опустели скамейки, выцветшие от ноябрьской серости, калитки стояли открытыми, подгнившие остатки пионов торчали из застывшей земли. Все существо с замиранием выжидало свою судьбу, настанет ли в эту зиму его час, или весна все-таки вернется.
***
Ваня сидел в кресле напротив дяди Коли и молчал. Лицо старика было задумчиво, лоб, на котором кучно собрались морщины, напоминал складчатую байку. Дядя Коля перебирал в руках осиновые прутья, будто бы пытался смастерить из них какое-то цельное вещество, то ли корзину для хлеба, то ли вазу – такие часто можно встретить в деревенских домах. Ветки не поддавались и оставались прямыми и упругими. Горло Вани раздирал ком любопытства, но спросить он не смел. «А что если дедушка вывалится по дороге, такая тряска». Он уставился на круглый старенький телевизор, который сейчас скрывался под хлопковым полотенцем. Дедушка всегда звал его смотреть фильмы, особенно когда показывали про войну. Ваня закрыл глаза. Ему не было страшно, скорее обидно, почему мама и все остальные уехали без него.
А еще вчера он пришел из школы, бросил тяжелый рюкзак и, перебивая свои слова своими же, с порога стал рассказывать об очередном учебном дне. Но все было не таким. В квартире не пахло супом, радио не играло, мама не грохотала на кухне. Она до сих пор лежала, зарывшись в толстое одеяло. Когда он тихонько вошел в спальню, она подняла на него застывшие глаза: «В школу завтра не идешь, Мария Алексеевна в курсе… автобус вечером в 6… едем в деревню». После долгой паузы она добавила: «дедушка умер». И все перевернулось. Ваня хотел заплакать, но не заплакал; только кивнул головой и тихонько затворил за собой дверь. В квартире было тихо.
Приехали в 10 вечера. Ваня никогда не был в деревне в конце ноября. Дорога была долгой. На полпути Ваню стошнило прямо на колени, его всегда укачивало в автобусах. Но мама не ругалась. Почти весь пусть она сидела с закрытыми глазами. Он боялся сказать ей хоть слово, хотя его беспокоил вопрос, как они поедут на кладбище так поздно.
От остановки до дома пятнадцать минут. Никто их не встретил, как это было всегда. Река еще не замерзла, хотя ноябрьская изморозь сводила скулы; вместо нее вырисовывалось мутное продолговатое пятно. Казалось, наступишь на него, и чернота проглотит ботинок, как густое болото. Кое-где раздавался протяжный собачий лай. Ване стало неуютно. Он знал, что ближе к зиме к ним в деревню приходят волки. «На кладбище сейчас, наверное, очень страшно». Всю дорогу их сопровождали оголенные палы. Остаточное древесное бытие ежилось и жалостливо взвывало от ветра. «Спать ляжем – они будут по стеклам скрестись и меня пугать».
На крыльце дома было натоптано. Они зашли внутрь и их встретил холод. Ваня предложил затопить печь, но ему не ответили. Кухня была переполнена народом: и тетя Лена, и Женя из Петербурга, и деревенские бабушки, чьи имена Ваня забыл. Ловкие руки орудовали ножами, гремели кастрюлями, чистили вареные яйца. Ваня сразу подумал о новогодней ночи, но сейчас было по-другому. От кухонной утвари образовался монотонный гул, через который пробивались обрывки фраз: «Может быть, принести еще беленькой?» «А бабушкам что?» «Завтра слазаю в подполье» «Шпротов мало, а привоза-то нет» «Витя из города привезет, надо звонить утром». Никто не улыбался.
Ваню с мамой с дороги напоили чаем, посадив возле нетопленной сырой печи. Мама плакала, плакала тетя Лена. Все остальные машинально кромсали вареную картошку и мороженые огурцы. Внезапно мама крепко схватила Ванино плечо и шепнула:
– Пойдем дедушку проведаем.
– А кто нас повезет? – мама не ответила. – Мы пешком пойдем?
Мама взяла его за руку, и они вошли в продолговатую гостиную. Дальняя стена была соединена с дедушкиной спальней. Дверь была закрыта. Ваня понемногу начал все понимать, и ему сделалось страшно. Медленно, держась за руки, они продвигались вперед. Оба серванта были завешаны черной тканью. «Там зеркала, когда кто-то умирает, зеркала завешивают, чтобы душа в доме не осталась». Пытаясь замедлить время, Ваня стал разглядывать выцветшие голубоватые цветы на обоях. На стене висела картина, вышитая крестом: змея, обвивавшая хвостом золотую чашу. Бабушку Ваня не помнил, но знал, что картина принадлежала ей. Она была фельдшером. Сейчас Ване казалось, что змея пожирает свой собственный хвост. Его стало тошнить. Оказавшись прямо напротив спальни, мама поцеловала Ваню в голову и прошептала: «Не бойся, дедушка тебя не обидит». И они отворили дверь.
***
Дядя Коля сидел на стуле, худая нога твердо упиралась в пол; слева от нее висела штанина, раскачиваясь в такт каждому движению тела. Ваня всегда хотел узнать, как выглядит то, что в ней прячется, но боялся. Дедушка часто рассказывал, как много лет назад его товарищ поехал проверять сети, забыв, что волны даже в самом тихом водоеме могут застать врасплох. Тишина, скопившаяся за долгие минуты непрерывного молчания, собралась в твердый густой ком и стала сдавливать виски и горло. Чтобы ее прогнать, Ваня заговорил:
– Дядь Коль, а расскажи мне про ногу.
Старик поднял не него побледневшие от времени глаза и усмехнулся:
– Да что уж там говорить, ты эту историю слыхал, да и лет тридцать уж прошло.
– Все ровно расскажи, я подзабыл, – Ваня боялся, что дядя Коля замолчит, и тишина снова зайдет в комнату и заполнит собой каждую щель.
– Ну ладно, Бог с тобой. Был я молодой тогда еще, дурак-дураком. Сети проверять поехал, погода-то стояла солнечная, и ни волны: озеро гладкое, как горб налима. Мотор заправил побольше, отчалил от берега и двинул. Думаю: ну и красота! В такую благодать большой улов будет. И как в воду глядел. Сети-то полны рыбы были! И вся пузатая, икристая. Уже слюни пустил: какую уху Манька моя наварит! Обобрал первую: килограмм на 60 было, ей богу, да и ехал бы к берегу. Но нет, думаю, соберу и с остальных, что туда-сюда метаться, поскорей домой бы. Поддал газку и к дальней двинул. Чувствую, что-то не так. Лодка все тяжелее ползет. Ветер! Да откуда он взялся, собака, в такую тишь. Озеро порябело, да и похолодало. Нет, думаю, обратно уж точно не поеду.
Чувствую, лодку раскачивает, но и бог с ней, уже на месте был. Сбавил мотор, но выключать не стал, вдруг шторм, а заново не заведусь. Подстраховаться решил. Вот и подстраховался. Нагнулся, держу сеть, а рыбы опять хоть зажрись! Начинаю обирать, а руки трясутся, лодку-то все сильнее качает. Думаю, хоть бы не перевернулась, проклятая. И вот те на! Наполовину в воде очутился. И опомниться не успел. Хватился за борт, еле обратно заполз. Смотрю, а штанина-то в клочья порублена. А дальше не помню. Вырубило! Очухался – уже у деда Гены в лодке. Нога вся в тряпье и болит, а кровь ручьем сочится. Привезли меня в город, в больнице был, врачихи ногу оттяпали, не восстановится, сказали. Но и черт с ней, с ногой. Благо – живой.
– Дядь Коль, а рыбу-то привезли?
– Эй, нее, вся расплескалась, так и плавает там вверх брюхом. До сих пор жалко, такая жирехонькая была. – Было видно, как старик оживился. – Скучаешь по дедушке, Ванютка? – несколько капель слюны вылетели из полубеззубого рта. Ваня это увидел, и ему стало неловко.
– Скучаю.
– Я тоже скучаю, Ванюшка. Ты знал, что мы были товарищами? Вместе ж за рыбой ходили. Он же младше меня на четыре года… То есть был младше. Всегда шутили, что я раньше помру, а нет. – Сухой стариковский кашель прервал рассказ. Дядя Коля прокашлялся, обтер рот краем пиджака и впился ногтями в обвисшую щеку, на которой вырисовывалось несколько раздутых волдырей.
– Так что это я тут лясы тереблю. Подсаживай давай ко мне, сейчас покажу деда твоего, молодого. – Он достал из кармана пиджака несколько пожелтевших бумажек.
Ваня подвинул табуретку и сел рядом с дядей Колей. Его глаза невольно опускались на пустую штанину, но он пытался о ней не думать.
– Вот, Ванютка, это дедушка твой, такой вот был, первый красавец! А кудри–то, погляди!
– Красавец... – Ваня помнил дедушку только старым, заболевшим, ждущим смерти.
– Вот они с бабушкой. Смотри, какие молодые.
Со снимка на Ваню смотрела красивая молодая пара, сидевшая на деревянной скамье. «Да это же наша скамейка!». Она – в гороховом платье чуть выше колена, держала в руках пышный георгин. Он – в парадном пиджаке, обнимал ее за талию. «Они ведь не знали тогда, что умрут». Ване сделалось неуютно.
– А вот и я, экий сорванец, посмотри! Помню тот день, мы с дедом твоим как раз на озеро собирались, а Маша нас фотографировала. – Лицо дяди Коли снова застыло. Он молчал, сожалея о чем-то далеком и неизвестном Ване. А Ваня листал оставшиеся снимки. На следующем несколько молодых людей стояли вокруг огромного стога, театрально подняв в воздух вилы и грабли. Прямо на вершине стога, опираясь спиной о длинный стожар, стояла его бабушка. Ее левая рука была закинута вверх, будто бы она его приветствовала, оттуда, из далекого черно-белого лета. Ваня продолжал перелистывать фотографии, пока что-то изнутри впивалось в желудок. Что-то пыталось подуматься, но ухватить это что-то он никак не мог или боялся. Он вернул снимки и переместился в кресло, в котором раньше всегда сидел дедушка.
Внезапно он вспомнил о недавно терзавшей его обиде.
– Дядя Коля, а где сейчас все?
– То есть как где? На кладбище, деда твоего хоронят.
– Я знаю, дядь Коля, а как хоронят?
Серые блеклые глаза с грустью посмотрели на Ваню.
– Да в землю его копают, в землю. Там уже яма готова… Земля замерзшая, еле вырыли, впятером полночи копошились. Грех – в ноябре помирать, столько возни... Дед твой и тут хлопот всем наделал. – Дядя Коля поперхнулся и опять закашлялся. – Поп приехал, нудью свою завел: Упокооой, Хоспадя, душу рабаа твоегоо. Я-то уж наизусть знаю. А бабы, поди, причитают стоят. А ты чего раскис?
– Я тоже хотел посмотреть.
– Насмотришься еще, Ванек, что ты. И покойника целовать будешь, и кутью с изюмом поешь – этакая гадость липкая. Да ничего, приедут все вечером на поминки. Бабы столько наготовили – хоть лопни.
Но Ваня был уже не тут. Разрозненные недавно мысли собрались воедино, и он наконец–то понял, что его так пугало. Он боялся подтвердить свое открытие, но собравшись с силами, тихонько спросил:
– Дядь Коль, дедушку похоронят… А потом с ним что будет?
После долгой паузы Дядя Коля посмотрел на него зловеще и резко ответил:
– Ничего.
Это ничего, тяжелое и громадное, с силой рухнуло на пол, сотрясая стены. Ничего впитало в себя все осиротевшее существо комнаты, и даже тишина, испугавшись, съежилась и забилась в дальний угол. Ване стало дурно. Он вцепился руками в подлокотники, пытаясь подтвердить, что он еще здесь.
– Ладно, Ванютка, чего загрустил. Сейчас я расскажу тебе одну историю. Есть мальчик, звать его Иваном, прямо как тебя, и рыбачить он любит, как я раньше любил. Но сидит он не на берегу реки, а на самом дне колодца. – Голос его мягко и монотонно расстилался по комнате, будто бы колесо телеги катилось по гладкой дорожной поверхности.
Конец истории Ваня не услышал.
***
Стемнело быстро. В деревнях всегда темнеет быстрее. Ваня приоткрыл сонные глаза. Кресло, в котором он сидел, смотрело прямо на дедушкину комнату. Белое пятно двери высвечивалось на фоне окружающего мрака. Дверь была закрыта. Внезапно страшная мысль наступила и растеклась по пробудившемуся от сна сознанию. «Я тут один». Ваня стал вертеть языком во рту, скользя по крепкой эмали. Часы издавали монотонные щелчки, будто бы не знали, что в доме кто-то умер. Он упрямо вглядывался в дверь. «Сейчас я отвернусь, и она откроется». Справа кто-то зашевелился. Ваня замер в оцепенении. Он слышал, как кто-то медленно елозит брюхом по гладкой поверхности. «Дедушка тебя не обидит». Звук мягко оборвался и затих где-то снизу. Изнутри Ваниного рта зубы вцепились в розовую мякоть щек. Он не кричал. «Люди орут, потому что они умирают».
Вдруг что-то произошло, и дрожащие Ванины пальцы впились в выключатель. От яркой вспышки все тени истлели, и мебель вернулась в свою форму. На полу лежал кто-то, недавно живой, всасывающий темноту, а сейчас обессиливший и скукожившийся от холодного света.
Ваня не понял, как оказался прямо напротив зеркального серванта. Его глаза уставились на отражение, которое за два долгих дня уже забылось. Сейчас оно снова собралось воедино, и вот на него смотрел десятилетний мальчик с сероватыми расширенными от пережитого страха глазами. Привычная розоватость щек исчезла под бледным налетом. Ваня понимал, что в зеркале отражается все, что находится позади него; он боялся увидеть то, что бродит сейчас тихонько по комнате, перебирает книги, поправляет смятый плед на диване. Он пристально всматривался в свое лицо, чтобы случайно не встретиться взглядом с тем, кто сейчас, наверное, стоит прямо за его спиной. «Вот мой нос, вот мои губы».
Внезапно волосы Вани зашевелились от дуновения теплого ветра. Ноздри его расширились и впитали знакомый запах. Пахло июлем, скошенной только что травой, сладкой, как мед. Из зеркала на Ваню смотрел молодой мужчина. Он был похож на Ваню, за исключением прямого носа, густых черных бровей и нескольких морщин вокруг глаз. Ваня понял, что это он, только взрослый. Кудрявые волосы, белая рубашка, подпоясанная тонкой льняной веревкой. Нет, это был не Ваня.
Ванин желудок упал куда-то вниз, руки окаменели, на свитере выступили два мокрых пятна. Но он не отворачивался, а продолжал в упор разглядывать молодое дедушкино лицо. Запахло свежей сдобой. Теперь Ваня стоял на кухне; это была та самая кухня, которую он помнил с раннего детства, и на которой еще вчера в суматохе готовили поминальный ужин. Вот большая печь, вот стол со срубом вместо ножки, только стены бежевые, и умывальник совсем другой, и самовар пыхтит, надрываясь. Она зовет: «Пора за стол!». Сарафан в выцветший горох, две темные завитушки из-под косынки, уставшая улыбка. «Бабушка!». Бабушки не стало, когда он был еще совсем маленьким. И вот она, живая, суетится вокруг стола.
За окном неожиданно потемнело, и вдалеке послышался громкий гул. Гроза начинается. «А если ливанет? Скорее в поле!». Дверь на щеколду. Из соседних домов уже собрались молодые парни с девушками. Даже старики вышли, кто в одиночку, кто с внуками. И бегом в поле; нужно успеть до первой капли. И несутся так, словно не существует времени; на бегу хватают кто вилы, кто грабли.
Поле ещё озарено яркими лучами, но туча все ближе. В суматохе сгребают сыроватую траву в маленькие копны. И тут начинается ливень. Молодые заливаются хохотом, старики ворчат: «ух, снова вся работа насмарку». А Ване с его спутницей хоть бы что, взялись за руки и стали кружиться, купаясь в прохладной свежести. Он целовал ее в румяные щеки, а она отворачивалась: «Ты что, все же смотрят!».
Тут потемнело.
Теперь Ваня стоял на обветшалом крыльце. Солнце уже село, оставив за собой бледно-розовый след. Тучи мошкары кружились в теплом вечернем воздухе, изредка раздавался скрежет сверчков. Ваня направился в дом, медленно переставляя тяжелые ноги; оступился и чуть не упал. Ступенька подгнила – самому уже не поправить, нужно дождаться дочку.
Кровать была разложена, но он лег прямо на стол, из-под которого веяло холодом. Он наклонился и увидел эмалированное ведро со свежим льдом. Испугавшись, Ваня тяжело сполз со стола. Подошвы погрузились во что-то мягкое и липкое. Оно разрасталось, разбухало, забивало уши и рот, оставляя на языке приторный вкус изюма.
Ваня проснулся от приступа рвоты. Машинное существо автобуса податливо откликалось на каждый горбатый ухаб. Ваня согнулся пополам, зарылся лицом в мягкий мамин живот и заплакал: «Его больше нет, он умер, его нет». На промятых сидениях два человека обнимали друг друга изо всей силы, со всей силой плакали и со всей силой понимали, что они еще существуют.
***
В январе Ване стало жарко и жарче становилось с каждым днем. Зима бушевала. Замерзшие снежные мотыльки метались над городом, искали обрывки света, кружились под изогнутыми фонарями или разбивались об оконные стекла, зачарованные отражением люстр и ночников. Ваня любил зиму, любил Рождественские каникулы, любил даже пластмассовую елку, которая раз в год выползала из тесной антресоли и расправляла свои затекшие зеленые конечности.
Мама все время плакала и с ненавистью царапала бледные руки. Или целовала горячее лицо Вани, вставала на колени около его кровати и засыпала, положив голову на мокрое от пота и болезни одеяло. Оспы больше нет – они говорили, не нужно делать ему прививку, столько последствий. Она каждый вечер подходила к зеркалу и со всем материнским отчаянием ненавидела ту, что в нем, с едва заметной вмятиной на левом предплечье. Я плохая мать, я умру, пусть только он будет.
Огромные раздутые волдыри все время чесались. Ваня смотрел в потрескавшийся белый потолок и представлял, как он встает посреди ночи, идет к шкафу и снимает с себя зудящую изуродованную кожу – сразу становилось легче.
В деревне, наверное, тоже сейчас зима, свежая и прозрачная. В доме невидимые ноги выходят из дальней комнаты, удивляются, почему кровать не застелена, медленно шарят по полу, зацепляются за порог, бредут дальше и останавливаются у большого окна гостиной. А за ним снег мягкий, блестит, впитывает всю густую темноту, и не страшно. Оказаться бы сейчас там Ване и выйти во двор. Похрустеть шерстяными валенками, окунуть их в белое вещество, расстелиться плашмя и крепко впиться глазами в кусочек черного неба. В деревне оно бескрайнее, как море, но податливое, а звезд видимо-невидимо, всех не пересчитаешь. «Мама, вот Большая Медведица, а вот Млечный путь». «Простудишься, давай скорее домой». Березовый веник елозит по спине, по шапке, по шерстяным ногам, домой снег нельзя – вдруг и там зима настанет и тогда где греться. А лежанка натоплена, даже деревянные стены хрустят от жары. Чайник вот-вот просвистит, и на столе появятся маковые сушки и карамельки с халвой. В городе мама запрещает есть сладкое так поздно – вредно. И звезд в городе не видно – все забиваются в темные складки неба и прячутся там от мертвого фонарного света.
Мама в ужасе смотрела на градусник, и перед ее глазами все расплывалось. Намочить компресс, половинка аспирина, нет, дам целую, он поправится, нет, это конец, ненавижу себя, лучше себя убью, нет, это не моя вина, зеленки совсем мало, позвонить доктору, нет, уже поздно, завтра. «Я же сказала, не расчесывай!» Она знала, что скоро все закончится, в ужасе хватала эту мысль и крепко закрывала глаза, не понимая пока, что именно должно закончиться.
***
Бледные руки протянули новый стакан и очередной горький кружочек. Ваня зажал его дрожащими губами и, сморщив уставшее лицо, проглотил. «Скоро станет лучше, я клянусь». Мамин поцелуй опустился на раскаленную поверхность лба и сразу же растаял. Она смотрела на него и любила его с той безусловной бесконечностью, с какой волчица защищает свое потомство, или тонкие пальцы художника держат ворсистую кисть, или трава вырастает прямо посреди иссохшей земли. Тоненькие ручки обвили мамину шею, и откуда–то издалека раздался еле слышный шепот:
– Я знаю, почему Ваня так и не поймал звезду. Он ловил восьмую, а нужно было третью. Вот она, я ее сейчас достану.
Запахло сыростью и бетоном, и запах этот был сладкий и желанный.
Ваня улыбнулся и погрузился в долгий сон.