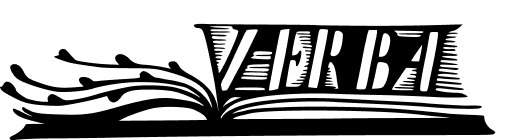***
Он вдруг понимает, что не может дышать.
Это выводит из себя. Ставит в тупик. Раздражает до точек перед глазами и сжатых в кулаки ладоней. Заставляет чувствовать себя беспомощным, невластным над ситуацией.
Больше всего на свете он ненавидит чувствовать себя беспомощным.
Сначала он не обращает на это внимания. Презрительно кривит рот. Следит, чтобы руки не дрожали, пока он по каплям отмеряет нужное количество реагента. Жадно глотает воздух — когда что-то внутри как будто мешает сделать вдох — и сердито выдыхает. Сосредоточенно листает тетрадь. Запах ванили — вчера рядом с парком. Проходил мимо, даже не разглядел лица.
Недоумённо смотрит: чернила размазались по листам и по его пальцам. Если бы это был бронхит, было бы хотя бы понятнее. Но он прикладывает ладонь к груди — не к сердцу, а посередине — сжимает кулак, разжимает, кривит рот и переворачивает страницу. В конце концов, от такого не умирают.
Первый приступ застаёт его (рука повторяет движения, отточенные годами практики) в процессе измельчения реактива. Ступка глухо падает на пол, и он изо всех сил цепляется за край стола, пытаясь устоять на ногах. Что-то заполняет всю полость глотки, распирает, давит изнутри. Он не может дышать. Падает (пальцы цепляют горло), отчаянно пытается сделать вдох — и слышит, как бешено стучит где-то в гортани сердце.
Осознание приходит не сразу — и это, наверное, выводит из себя больше всего. Уязвляет больше всего. Он лежит, смотрит в потолок тёмной спальни и прислушивается. Пытается почувствовать.
И чувствует.
Чем больше становится бутон, тем чаще случаются приступы. Он глотает противовоспалительные и делает вид, что это имеет смысл. К врачу он так и не сходил (при мысли об этом кривится рот и сжимаются кулаки), поэтому к холодильнику прикреплен листочек, на котором расписаны курсы лекарственных препаратов. В конце концов, он и в медицине кое-что понимает.
В конце концов, он может справиться с этим сам. Было бы с чем справляться.
В левом боку вчера начало стрелять попеременной болью.
К концу декабря бутон разрастается настолько, что не помещается под левым ребром. Вообще не понятно, почему чёртов сорняк решил прорасти именно там. Но он тут как тут — упирается длинной, гладкой головкой в хрупкие кости; разрастается с каждым днём; сгибается, напирает сильнее. А места под рёбрами больше не становится.
Он запивает свои расстроенные чувства курсом антибиотиков.
Не помогает.
Он, впрочем, не удивляется.
В январе кашель усугубляется до такой степени, что говорить нормально уже невозможно. Приходится выходить на больничный, решать рабочие дела из дома, переписываться с коллегами, консультировать практикантов, раздражённо дёргать уголком губ в экран монитора (ну, хоть куда-то), выстукивать клавиатурой решения проблем, усилием воли (пару месяцев назад его подушка пахла так же, или не совсем так, не успел разнюхать, она так быстро прошла мимо, он даже не посмотрел) концентрироваться, когда внезапно забыл, о чём думал несколько секунд назад.
Наполненность в груди никуда не уходит. Он ощущает её каждую секунду, но особенно сильно — в моменты, когда сгибается от кашля. Он кашляет — надрывно, болезненно и подолгу — а бутон в его груди распускает лепестки. Врастает внутрь, пускает корни всё дальше, глубже, оплетает побегами его внутренности. Иногда шевелится — легко, невесомо, почти ласково.
Однажды ночью один из побегов пытается проползти между рёбер.
— От такого не умирают, — говорит ему усталый пожилой врач. — Такое случается редко, конечно, но, если случается, люди живут с этим. Некоторые даже вылечиваются.
— Всё дело в вашей голове, — говорит ему тот же врач, откладывая на край стола рентгеновский снимок. — Всё в вашей голове.
А на снимке — крепкие, непреклонные стебли оплели рёберные кости, почти не оставив свободного места, бутонами давят на лёгкие.
Он опирается о стену, потому что у стульев в приёмной нет спинок.
— Лучше бы умирали, — безжизненно отвечает он.
Каждый шаг теперь отдаётся болью. Он представляет, как стебли, бутоны, листья заполняют всё его тело: прорастают изо рта, ноздрей, запавших глазниц, ушей, упрямо выглядывают из провала грудной клетки. Делают из него нечто невыразимо более прекрасное, чем он является.
— Я же уже говорил вам, — врач смотрит через помутневшие стёкла очков, — всё — в вашей голове.
Он щурится, поджимает губы, упрямо не сводит взгляда с потрёпанной амбулаторной карты.
— Это ведь не бронхит и не астма, — продолжает доктор; слова пробиваются в сознание как будто сквозь толщу воды; секунды отдаются в висках, волнами пульса раскатываются по всему телу. — Это чувства. Они лишь в вашей голове.
Поток слов, тяжёлые секунды, стук в висках — останавливаются в одной точке.
Он не сводит тусклого взгляда с потрёпанной амбулаторной карты.
— Устраните их, — просто говорит ему врач.
Он закрывает глаза. Шумно, рвано вдыхает. На выдохе начинает считать до ста.