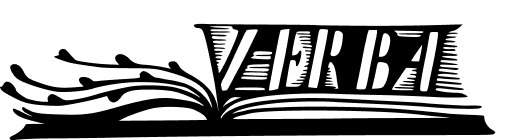***
Introductio
Люблю смотреть, как она спит. Ловить мгновение, когда Морфей, бледный и в неизбывной истоме, исчезает, и она впускает себя в мир, причащается всеобщему молчанию. Я обыкновенно пробуждаюсь раньше – мы точно сообщающиеся сосуды или костяшки домино. Контрапункт Венеры и Марса…
Я терпеливо выжидаю – нет, безропотно жду. Так, наверное, точнее.
На подушке всё ещё теплится мой лапидарный абрис, простынь хранит оттиск моего тела, а где-то под наволочкой носятся, оседая на дно памяти, сны. Она ворочается и морщит нос – наверное, уже скоро…
В окна глядит хмурое, снулое утро. Осень – глубокая осень… Палая листва, прогорклая, слежавшаяся, аморфная, теряет остатки выцветшей жизни. Старый стадион, амфитеатром раскинувшийся на загнанных в бетон и седые газоны холмах. Уныло, печально и торжественно – осень. И в сердце пустоты – этаким обелиском на пустынном форуме – школьном стадионе – обруганный злоречивым ветром, понуро вытянулся фонарь – он забыл умереть! Кругом, куда ни глянь, всё ослепшие, дремлющие циклопы. А он – поглядите-ка! – осмелился выжить... И влачит одинокое, бессмысленное существование при свете дня. Он вхолостую расходует душу. Влюблён, наверное…
В ожидании пароксизма я тревожу воспоминания… Фантомы, огни святого Эльма над покойными водами Леты… И – вот уж досада – некому переправить меня в уютное вчера. Остаётся уповать на милость Мнемозины!
Мoderato
Увертюра нашей эклектичной симфонии прозвучала в электричке. На станционных платформах гулял ветер – и больше никого. Он резвился, взметал листья, загоняя их в распахнувшиеся двери. Обречённые безбилетники, вечные странники понуро ютились по углам, забивались под сиденья и прятались в ногах дремлющих пассажиров. Из её наушников плескался Паваротти…
«Ti volglio tanto bene?
Non ho nessuno al mondo…»
Я тщился упорядочить мысли и структурировать слово – обуздать его и в результате получить текст – остывающую рецензию, портрет новорожденного классика. Отхватить аналитический кусочек от мраморной избыточности воздвигаемого монумента – его книги.
Мортическое буйство красок мешает думать, теснит мысль и понуждает к стороннему участию – невольно ныряешь в пёстрый, чудовищный и восхитительный круговорот. Тоже своего рода рецензия… Отчего бы не сочинить очерк осени?.. Шедевр фенологии… Ежесезонный бестселлер. Поэтика времени – и колористика конца. Эх!..
Тем вечером мы дотемна говорили – и рельсы вели нас к городу. Я насвистывал древние шлягеры, а ты сочиняла стихи. Когда ты сложила первые песни нашей поэмы?.. В мгновение ока, под уютно холодным балдахином прожекторов, рассыпанных в стылой паутине проводов над железнодорожными путями?.. Я чувствовал, что наши интроспективные камертоны синхронизировались – мы внимаем одной мелодии, гарцуем от лада к ладу и следуем от паузы к fermato. А может статься, в нашу первую ночь вместе – ты читала мне чужие строчки и, забывшись, терзала мою шевелюру, точно трепала подхалимистого кота. Я, игнорируя Тютчева и жадно внимая Кузмину, с юношеской порывистостью на память шептал Шекспира:
«Покорный данник, верный королю,
Я, движимый почтительной любовью,
К тебе посольство письменное шлю,
Лишённое красот и острословья»[1].
Дети поэзии, мы были неизмеримо далеки от жизни и бесконечно пытливы в стремлении постичь таинство Смерти. Мы забавлялись с подолом её тлетворной сутаны, точно беспечные боги-младенцы у ног старухи-Земли.
Мы инсценировали свои похороны и в лицах разыгрывали все перипетии странствующих душ. Ты искала тени, и сбегала в неизвестность. Я пускался на поиски, взяв в попутчики гитару, и не обернулся, когда мы миновали Ахерон. Мы тщились отыскать золотую ветвь, в ответ на наши потуги слыша ламентации лавра. Я испросил старика Харона о днях его юности и размолвке со Временем. Он переправил нас на берега безвременья, забывшись в воспоминаниях. Мы упражнялись в патетике и репетировали главное таинство жизни:
«Что для тебя – синоним Смерти?»
«Сон…»
«Фразёр! Выходит, мы с тобою – квазисинонимы?..»
Она искушалась в словесных аллегориях, а я покорно расшифровывал её силлогизмы.
Мы определённо принадлежали одному семантическому полю – мы порвали отношения с цепочкой, вырвались из ряда синонимов и исчезли – вослед уходящей электричке, под завесу жёлтых фонарей… Бегущей навстречу, беспредельной рампы. И я не оглядывался.
Мы подолгу слушали музыку – и танцевали часы напролёт, едва ли не всякий день. Мы фонографировали наши чувства, senza fine прокручивая второй концерт Рахманинова в до миноре. Он был тебе удивительно созвучен.
«Послушай… это мой голос. Услышь меня и люби такой!..»
Я отдавал предпочтение Гайдну, а ты уснащала его нафталином.
– Это рафинированная музыка, точная до абсурда. И смехотворно изящная – так и вижу чопорных господ с чудовищными жабо и кишащими паразитами париками, место безучастности на их лицах заступает скука, отрешённость и, наконец, здоровый сон. Зрю, как они косятся на игристое и декольте мадам де Лафайет. А взмокшие под бронёй крахмала и пудры бедолаги-музыканты понапрасну ловчатся не опрокинуть хрупкую вязь мелодии…
«У Гайдна она хотя бы есть… поди отыщи голос Эвтерпы в разливах её любимого Гершвина или Шнитке… амальгама, туманная амальгама».
Бах… его прелюдии из «Клавира» – не воплощённый в гармоническом звуке голос Эдема, песня Вселенной – вечность, заключённая в шестиэтажный космос? Не вечность ли это в миниатюре?.. Неизбывно резонирующая и неотвратимо обнаруживающая отзвук – эхо тронутой души?..
«Может, это и вечность… тысячелетний сон тебе обеспечен. Коротать бесконечность в объятиях Морфея – завидная участь! Тебе имманентна».
Универсальное её слово. Имманентно. Пустое… Порой мне не трудно себя убедить, что наш общий «континуум» – ни что иное как комическая пантомима – репетиция её счастья. Она шепчет себе под нос откровения, точно суфлёр в театре одного актёра. А я остаюсь в тени душевного обскурантизма.
«А впрочем… ты, наверное, прав. Действительно мило».
Мило. Я взбирался по лестнице, шагая полутонами и перескакивая тона, и облака перекатывались в невыразимом сиянии. Свет ниспадал на Землю, оставшуюся в неизвестности, там, внизу. Цепь блистала в эфире, а солнце высекало из золота искры и расчерчивала радужные филиграни. Ты не пожелала сопроводить меня в мгновенный Эмпирей – Адам возвращался с поникшей головой, с болью под сердцем – и неясной лёгкостью, глухой пустотой внутри.
Как и все, окунувшиеся в жизнь с головой, черпающие из Геликона, она не стремилась вновь обрести потерянный Рай. Она исповедовала ею же выведенную максиму: «Твори свой Рай собственноручно, а если ты – сносный плотник, сколотишь свой миф. А может, ты – гений, и с лёгкостью отыщешь золотые врата. Не жди апостола Петра – шагай смелее. Ключ в твоих руках, и это – ты сам. А Рай – твоё сегодня».
Она аранжировала Бриттена и перекладывала Скрябина. Переводила с азбуки звука на язык мелодии. А я предпочитал говорить с ними напрямую. Ты сочиняла стихи, набрасывая силуэт Бога, а я стенографировал его эманацию – щепетильно снимая с жизни – Его онтологического текста – эрзац-оттиск.
Con brio
Поутру моросил дождь, то набирая силу, развёртывая модуляции и заходясь в трудном пассаже, то переходя на нежное legato и задумчивое lento. Мы слушали Шопена – самого дождливого романтика, и читали. Ты бегала глазами от страницы к странице, точно мелодия, по следам нот, а я в полудрёме терял нить своей истории – цепляясь за встречные мысли – казалось, им нет числа и нет никакой возможности избыть их и сосредоточиться на перипетиях чужой, вымышленной жизни.
Я наново открыл для себя Шопена – неизлечимого романтика, витающего в надоблачных высях и низвергающегося в пепел революции. Шопена-ревнивца, Шопена-любовника… Я презрел Жорж Санд – за её неотразимость, за её красоту, con brio чувства, за её гениальность и неуязвимость перед временем… За её блестящее слово и самозабвенную любовь…
Она восхитительно разыгрывала Шопена – мы играли в четыре руки. Она уносилась вперёд, а я ловчился натянуть эфемерные удила.
Я всегда был склонен к эвфуистике в импровизациях, а она острила, насылая тень Гайдна на моё «щербатое барокко».
«Тебя не удержать в удилах legato – рвёшься в эмпиреи».
«От Икара и слышу! Хе-хе!..»
«Взмывая вслед иллюминации Эмпирея, не рискуем ли мы удариться о небесную твердь и, оторвавшись от бремени земного, падать назад?..»
Ты могла с равным изяществом бежать la vita и всегда чувствовала diminuendo…
Она нередко просила наиграть вальс в ре минор, и я безропотно нырял в модуляции левой…
Ты взбиралась на остывшую постель, смешав барельефы наших тел и нашего чувства, и читала её романы… иногда в слух, но обыкновенно – для себя, «постигая вселенную в интроспекции». Ты забывала о моём существовании, ты пребывала в самодостаточном, замкнутом микрокосме, в «моём необходимом алькове» – там робко гремела его музыка и било живительным родником её слово…
Я тщился не сбиться, не выдать воронки турбулентности, образовавшейся у меня внутри, противоборства двух мощных стихий – Любви и Страсти – и не заметил, как левая поскользнулась и с грохотом растянулась на скомканную октаву.
– Хромаешь!..
Её голос – но чьи слова?.. Её?.. А может статься, то реплика, вывалившаяся из книги?.. Я оробел или он – томящийся гений?.. Узник, обременённый телом, невольник беспокойного чувства…
Presto
Однажды я инсценировал на подмостках нашей симфонии, плескающейся в оркестровой яме, пароксизм, резонирующий ли Шопена, а может, ставшую эхом нашей сбивчивой мелодии. Я хлопнул лакированной крышкой – и мгновенно пожалев о содеянном, уронил страдальческий взгляд на инструмент – в поисках сочувствия от того, кого столь жалким образом обидел?..
Нутро фортепиано напоминает закулисье театра, иллюзорно пространный атриум, где резвятся без забот и тревог шумливые музы. Я потряс этот блаженный мусейон, обрушив на головы беспечных существ громоподобную какофонию ревности…
– Мендельсон впал в немилость? А инструмент всё сносит… что безропотная супруга…
Она снизошла с Эмпирея и опоздала. Отстала от музыки, жизни и нас…
Смятение обуяло моё существо вместе с осознанием, что мне нечего ей вменить, не в чем упрекнуть, не считая тривиального факта: она свободный человек, суверенная и, увы, an ignota anima[2]. Моя ажитация явилась плодом «болезненно-скрупулёзной интроспекции», пагубным самокопанием и ненужным самоистязанием… Много шуму из ничего…
Из ничего ли?..
Smorzando
«Боюсь, наша жизнь всё более походит на канон вглухую, я его не понимаю и это, кажется, обоюдно…»
Порой её нежелание слышать рождало диссонанс в нашем совместном контрапункте. В музыке кодифицирована наша душа, и она, похоже, не искала гармонии, консонанса, предпочитая свою мелодию моему навязчивому аккомпанементу.
Скрепя сердце, заземлив камертон, она прошептала «Люблю» и вручила обёрнутую в подарочную бумагу пластинку. Её улыбка размножилась в сверкающих ёлочных шариках, а гирлянды играли светом, точно прожекторы над рельсами – извечным беглецами, и шпалами – их безропотными преследователями.
Не забыла – в тот памятный вечер я выступил с «апологией винила», впрочем, прозвучавшей как надгробная речь её величеству Ностальгии – скорби по временам, когда ни меня, ни её не было под этими звёздами, спрятанными под белилами дня.
«Вспоминай обо мне, слушай мой голос, и, если любишь, услышишь…»
На чёрной дорожке, бегущей по кругу, расползаются алые персты. Ржавчина?.. Вздор, смешно! Скажется ли на звучании?.. Постой, мгновенье…
До чего тихо… Слышен только бесцельный ход часов, давно потерявших счёт времени и позабывших проснуться, чтобы его отсчитывать.
Я включаю проигрыватель, но тихо, чтобы не разбудить её. Чёрств сердцем осмелившийся разомкнуть объятия Морфея и Психеи. Морфея или Танатоса?.. А впрочем, какая разница?.. Безнадёжно их спутал… её это забавило… «Из всех близнецов во вселенной эти двое меньше прочих склонны терпеть небрежность! Мелочь, а всё же… так недолго и забыть, что ты спишь, и опрометчиво заключить договор не с тем братом. Ха-ха…»
Боюсь, я излишне сентиментален…
Игла опустилась в гущу стылого нечто – экзистемы, просочившегося эфира, квинтессенции жизни?.. Сургуч, остывающий, чтобы скрепить спонтанную конвенцию?..
Запнулась.
«Души смиреннейшей в ночи
Ухода люди не услышат…»[3]
«Хромаешь, о ноги спотыкаешься», – скажет она, если проснётся. Когда проснётся.
Выправилась, воспрянула духом, побежала, запела…
Haydn, Op. 103, Hob. III: 83: I. Andante grazioso.
Я жду…нет, выжидаю, когда она проснётся, чтобы прочитать в её лице правду. Человек искренен в двух состояниях души и тела – исторгнутый из объятий Морфея и в цепких лапах мудрого Танатоса. Стоит ей открыть глаза – «размежить веки» – я увижу, я всё пойму…
Обессилев, последний замешкавшийся фонарь – возроптавший центурион ночи – погас.
И всё же: Морфей или Танатос?..
А впрочем, неважно…
[1] Из XXVI сонета В. Шекспира. Перевод С. Я. Маршака – прим. автора.
[2] Неизведанная душа (лат.) – прим. автора.
[3] Начальные строчки стихотворения Д. Донна «Прощание, запрещающее печаль». Перевод А. Шадрина – прим. автора.