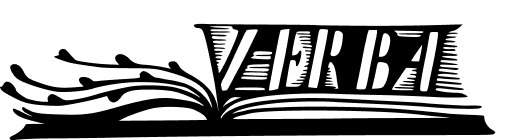***
1
Ох уж этот вчерашний день, тот самый, который мы все восхваляем. Ох, этот день! Как все роскошно и всевозможно! Какими зрелыми мы ощущали себя, готовыми на все, преисполненные щедрости и восторга- какими полными надежды мы были в те летние деньки, под чистыми, белыми облаками, бегущими куда-то. Ох, этот вчерашний день!
2
Я был на старой свалке –о которой все позабыли, - где жимолость все лето до пота разъяренная, желала, казалось бы, украсить весь мир. Здесь каждое лето обитала пара колибри, как будто бы они единственные в своем роде, в своем собственном раю на обочине дороги. В жаркий полдень я прогуливался возле ежевичных тростников, которые густо росли в той разрухе, и почти всегда был уверен, что увижу самца колибри на его любимом высоком насесте, возле верхушки дикой вишни, который смотрел на свое царство ярким глазом, но еще ярче у него был голос. И вот, в тот день, о котором я рассказываю, когда он взмахнул своей головой, с небес донесся громкий рык, металлический и энергичный, пронзительным криком пронзающее воздух. И самолетом, как черным треугольником, с криком он полетел с горизонта, тяжелые когти сжимались двумя комками в нижней части его тела. И в миг: боль, пронизывающая голову на высоких частотах. И я увидел, как маленькая птичка, в блеске своего дерева, крутила зеленой макушкой из стороны в сторону, чтобы глазком увидеть этого ястреба, этот кошмар, нависший над ее головой. И, вот, колибри вскрикнула, прижалась к ветке, съежилась, затрепетала. Это было великолепное, сверкающее на свету сокровище Бога: страх. Весь рассказ - это лишь метафора.
3
После шторма без лишнего шума океан вернулся на прежнее место; прилив взбирался на заснеженный берег, а затем отступал; таков был мир: небо, вода, бледный песок и там, где прилив достиг своей финальной точки в тот день, лежал снег.
И вот одна деталь: тело гоголя, а рядом с ним морская чайка. В теле гоголя, меж грудных перьев, отверстие около трех сантиметров в ширину; кричаще красного цвета изнутри. И как ни крути, в этом не было никакой вины: шторм положено швырять, а морской чайке-питаться, и так далее. Это было всего лишь мгновение. Солнце, показавшееся из-за нагромоздившихся облаков, бросало на ландшафт свой необыкновенный свет, который можно было с легкостью назвать нежным.
Three Prose Poems
1
Oh, yesterday, that one, we all cry out. Oh, that one! How rich and possible everything was! How ripe, ready, lavish, and filled with excitement—how hopeful we were on those summer days, under the clean, white racing clouds. Oh, yesterday!
2
I was in the old burn-dump—no longer used—where the honeysuckle all summer is in a moist rage, willing it would seem to be enough to decorate the whole world. Here a pair of hummingbirds lived every summer, as if the only ones of their kind, in their own paradise at the side of the high road. On hot afternoons, beside the blackberry canes that rose thickly from that wrecked place, I strolled, and was almost always sure to see the male hummingbird on his favorite high perch, near the top of a wild cherry tree, looking out across his kingdom with bright eye and even brighter throat. And then, on the afternoon I am telling about, as he swung his head, there came out of the heavens an immense growl, of metal and energy, shoving and shrilling, boring through the air. And a plane, a black triangle, flew screaming from the horizon, heavy talons clutched and lumpy on its underside. Immediately: a suffering in the head, through the narrow-channeled ears. And I saw the small bird, in the sparkle of its tree, fling its green head sideways for the eye to see this hawkbird, this nightmare pressing overhead. And, lo, the hummingbird cringed, it hugged itself to the limb, it hunkered, it quivered. It was God’s gorgeous, flashing jewel: afraid. All narrative is metaphor.
3
After the storm the ocean returned without fanfare to its old offices; the tide climbed onto the snow-covered shore and then receded; so there was the world: sky, water, the pale sand and, where the tide had reached that day’s destination, the snow.
And this detail: the body of a duck, a golden-eye; and beside it one black-backed gull. In the body of the duck, among the breast feathers, a hole perhaps an inch across; the color within the hole a shouting red. And bend it as you might, nothing was to blame: storms must toss, and the great black-backed gawker must eat, and so on. It was merely a moment. The sun, angling out from the bunched clouds, cast one could easily imagine tenderly over the landscape its extraordinary light.