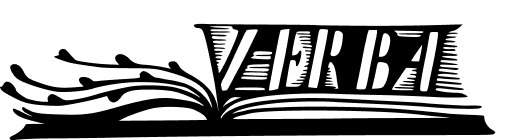***
Размышления о книге Р. Сенчина «Адександр Тиняков: Человек и персонаж»
Былинкой гибкою под ветром Я качаюсь,
Я Сириусом лью лучи мои в эфир,
И Я же трупом пса в канаве разлагаюсь,
И юной девушкой, любя, вступаю в мир.
И все очам людским доступные картины,
Все тени, образы и лики бытия
Во глубине своей божественно-едины,
И все они во Мне, и все они — лишь Я.
Христос израненный и к древу пригвожденный,
И пьяный сутенер в притоне воровском —
Четою дружною, навеки примиренной,
Не споря меж собой, живут во Мне одном.
Во всем, что вымерло, в деревьях, гадах, птицах,
Во всем, что есть теперь в пучине бытия,
Во всех грядущих в Мiр и нерожденных лицах —
Во всем Единый Дух, во всем Единый Я.
А. И. Тиняков
И он был рожден лириком и пейзажистом. Правда,
с первых же шагов на писательском поприще обратился к миру,
казалось бы совершенно чуждому тому, в каком родился и рос,
чуждому даже своей собственной природе, — обратился к декадентству.
Смешно ведь — декадент из мужиков, Шарль Бодлер Мценского уезда.
Но попытаемся понять.
Р. Сенчин
В начале уходящего года биографическая серия, выпускаемая под редакцией Елены Шубиной, пополнилась книгой о жизни, творчестве и превратностях поэтической участи Александра Ивановича Тинякова (1886-1934), быть может, самого противоречивого «человека и персонажа» в истории русской культуры прошлого века.
Труд Романа Сенчина, талантливого новеллиста и автора одного из лучших русских романов первой четверти нового века (пришла пора подводить итоги первой серьёзной вехе тысячелетия), оказался несколько неожиданным: во-первых, оттого, что сам автор прежде не выступал в амплуа жизнеописателя, во-вторых (и, пожалуй, в-главных), потому, что личность и сочинения Тинякова, наделавшие шуму в порубежные годы (первые советские публикации — 1987, первые исследования — 1990-е), несколько подзабылись, уже вторично.
Сегодня имя А. И. Тинякова (и его псевдоним в 1910-е — Одинокий) едва ли знакомо «широкому читателю» (если этот советский термин вовсе уместен в нынешние времена), специалисты и любители русской словесности помнят его всегда запоздалые и неизменно скандальные «вирши» — в лучшем случае припоминается («ах, да!..») титульное тиняковское «Радость жизни», положившее конец его литературной и человеческой репутации — убившее мертвеца; или более известное, тошнотворное:
«Любо мне, плевку-плевочку,
По канавке грязной мчаться,
То к окурку, то к пушинке
Скользким боком прижиматься».
Возвращение Тинякова началось в девяностые, когда в первом номере «Литературного обозрения» за 1992-й год появилась «повесть в документах» В. Варжапетяна «Исповедь антисемита». Спустя пять лет Н. А. Богомолов издал текстологически авторитетное, снабжённое обстоятельной статьёй и научным комментарием собрание стихотворений поэта. Тогда «чернушные» стихи Тинякова звучали в резонансе с новеллистикой В. Сорокина, В. Маканина, Т. Толстой...
Роман Сенчин, превосходно знающий «свинцовые мерзости жизни» — провинциальной ли, столичной, стремительно-переходной или сонливо стагнирующей, — в своей прозе (в тех же «Елтышевых»), как кажется, развивает горьковские сюжеты — «Детства», «Артамоновых», отчасти «Фомы Гордеева»... Душевное состояние человека порубежья, «семейный упадок», отражённый «тогда» в романах Томаса Манна и Максима Горького, Людмилы Петрушевской и самого Сенчина — «сегодня», в наш (слишком стремительный) век...
Образ Тинякова неотчуждаем от картины Серебряного века русской культуры. Если резонанс нашего времени и момента столетней давности ощущается чуткими душами, то и слово «возвращённого» поэта может прозвучать «в ноту со временем».
Наконец, внимательному читателю Сенчина выбор героя не покажется уж вовсе неожиданным, о чём сам автор пишет во второй части книги, рассказывая о своём Тинякове, пришедшем в собственную прозу писателя из прочитанных в юности книг (Блока, Тынянова), таящемся между строк «благопристойных» современников, неизвестном, под соблазнительным знаком вопроса... ЧуднОм и странно («чудностью» и таинственностью) симпатичном.
Быть может, личный, симпатический, но не пристрастный взгляд и сообщает книге увлекательность и глубину. О том, что любимо и возмутительно, дорого или ненавистно, не напишешь с унынием обязанного.
И здесь, наверное, следует сказать об авторе-герое, образе автора или, говоря в терминах Бахтина, «авторе вторичном».
Образ автора, подмигивающий читателю в скобках, мелькающий среди отрешённого повествования, курсируя между тиняковским «тогда» и нашим «сегодня», нет-нет, но ловит «Александра Ивановича» на контрадикциях и — как старый друг замечтавшегося приятеля, возвращает «с небес на землю». Бережно. Деликатно. Почти любовно.
Тем самым как бы осаждая зарвавшегося (и при этом ранимого) энфанта террибля.
В самом деле, тиняковские стихи, как ранние опыты Эдуарда Лимонова, трогают демонстративным и кротким самохвальством:
«Совсем пустым, ненаполнимым
Меня природа создала,
И тают легковесным дымом
Мной совершенные дела.
И тонут в пропасти холодной
Сиянья пламенных планет,
И голос бурь, и пенье птичье,
И человечьи голоса…
И глядя на мое величье,
В комочек сжались небеса…»
И, пожалуй сказать, личность Тинякова, представленная Романом Сенчиным, — при всех её омерзительных крайностях — порой обаятельна.
Декадентствующий почвенник (1910-е) и большевистский агитатор (1920-е), любитель, порой проницательный знаток лирики Тютчева и упивающийся некротическими картинами злонасмешник, защитник «живой жизни», естественной красоты русской деревни и «городской поэт», подражатель автора «Urbi et orbi», «специалист» по талмудической традиции и зубоскалящий антисемит... Так или иначе, Тиняков последователен в изменчивости, постоянен в парадоксальности.
Дарование романиста, умение искусно высветить «зыбкий», «химерический» характер героя, должно быть, послужило автору в стремлении сочетать исследовательскую точность и заражающую убедительность. Книга прозаика о поэте прочитывается как исследовательский роман, продолжающий традицию русских и советских художников-жизнеописателей — Л. Гроссмана, Тынянова...
Правду сказать, история русской литературы в минувшем веке представляет для художника соблазнительный материал — в котором нужно иметь искусство не заплутать. Исследование Сенчина превращается в расследование, когда в авторской ретроспективе пересекаются два предельно различных и вместе подобных пути — «неудавшегося поэта-символиста», «сильно опоздавшего декадента» Тинякова и молодого рязанского крестьянина Есенина, примыкающего в 1910-е к сообществу т.н. «новокрестьянских поэтов», альтернативных «символистскому Парнасу». Впредь их судьбы автор поведёт параллельно.
Казалось бы, две личности объединяет разве только репутация скандалистов и (у каждого по-своему) мрачный конец — смерть профессионального нищего и опустившегося лагерника; (вероятное) самоубийство «последнего поэта деревни» в алкогольном делирии... Однако рекогносцировка Сенчина и предположение о роли Тинякова (мучимого завистью к чужой известности, кручиной о собственных невесёлых делах) в расположении сил русской литературы в 1916-ом году по меньшей мере любопытна. Ведь и есенинская судьба, подобно тиняковской, окружена ореолом таинственности.
«Косые соответствия» (Кузмин) в искусстве неизбежны — что демонстрирует причудливый (и страшный) лабиринт ХХ века. Триада Тиняков — Есенин — Зощенко (о последнем — ниже), намеченная автором, раскрывает чудовищный жребий художника в кафкианском ХХ веке.
Что же такое Тиняков и в чём загадка его «падения»?
Какое же место занял этот энфан террибль русской словесности в её истории?..
По Сенчину, кажется, своё — и весьма прочное.
Отвергая «пристающее» к его герою амплуа юродивого, не исчерпываясь в истолковании феномена Тинякова доводами обыкновенного сумасбродства или физиологического вырождения, автор доходит до существа тиняковского миросозерцания, говоря строго, во многом адекватного эпохе (эпохам) — исходящего декаданса, зыбкого предвоенного времени, ошеломляющего переворота, Гражданской войны (см. судьбы шолоховского Григория или константин-фединских братьев), НЭПа (что это было?), первого сталинского десятилетия...
Душевное движение (низкое, не делающее чести герою) объясняет его натуру, «психологически мотивирует» не только поступки Тинякова (совершённые под маской — или «в состоянии»? — Герасима Чудакова, Антипа Хлыстова и др. масок-псевдонимов), но и траекторию развития его дарования — а в последнем, в стихотворном, и вообще писательском, таланте, причём немалом, Тинякову не отказывали даже литературные оппоненты.
«Шарль Бодлер Мценского уезда», очутившийся в столице, переходящий из лагеря в лагерь, из салона в салон, из органа в орган, угодил в положение юного Люсьена де Рюбампре, которого всякий из столичных мэтров использовал в своих намерениях, не преминув напомнить, что имя его всё-таки Шардон, а значит, и место — в запарижской глуши. Тщеславие и ненасытность, погубившие бальзаковского героя, Тинякова, напротив, питали. Себялюбие (при нешуточной требовательности к себе любимому) подталкивало его к поэтической судьбе, которая, надо полагать, состоялась, но... как-то «шиворот-навыворот», «в кривом зеркале». Тиняков – поэт гениальной неудачи.
Мотив рока, фатальные, по убеждению Тинякова, предпосылки предначертанной ему «карьеры» автор книги проводит мерцающим, то и дело проступающим обстоятельством его изумительно неправдоподобной жизни. Роковое «опоздание» к символистскому торжеству — и фатальная уместность в лихолетье Гражданской войны; шумное жидоедство — и громкая левизна... Всё это — Тиняков. Разорванный, но удивительно цельный...
Может статься, поэтому Тиняков ещё при жизни «размножился» в сочинениях весьма разных современников, сделавшись персонажем не только богемной жизни, но и русской литературы: главными «апокрифистами», создателями тиняковского мифа, по Сенчину, были Владислав Ходасевич, ближайший товарищ и самый едкий хулитель поэта-протея, и Георгий Иванов — ученик и во многом эстетический приемник Тинякова, написавший четыре разновидных его портрета (истерический свидетель «чуда» ходящего по водам Валерия Брюсова; участник смертоубийственной авантюры с чужими чемоданами и т.д.), представленных в книге Сенчина.
Особую лепту в создание «мифа о Тинякове» внёс Михаил Зощенко, для которого образ поэта-лохмотника, закреплённый за Тиняковым в 1920-е, оказался пугающим наваждением. В повести «Перед восходом солнца» (1943) Зощенко представляет «А.Т-ва», нищенствующего поэта, в «смердяковском вдохновении» пишущего «циничные» и «гениальные» стихи: «Передо мной было животное, более страшное, чем какое-либо иное, ибо оно тащило за собой привычные профессиональные навыки поэта». В обширных выдержках из повести Зощенко, приведённых Сенчиным, писатель сближает в образе опустившегося Тинякова лик Христа и черты лютого разбойника. Выразительно, ярко — но справедливо ли? (Спрашивает автор.)
Попытку распутать это сплетение «фантазий и правд» Роман Сенчин предпринял во второй части книги.
Конечно, русская культура тех лет помнила немало эксцентрических талантов — взять хотя бы заклятого приятеля Тинякова — «крепостника» Бориса Садовского, и в советские (1920-40-е) годы не упускавшего случая учинить эскападу международного масштаба. Или «бредящего» эгофутуриста Константина Олимпова... Эзотерического искателя Хлебникова. Олонецкого кудесника Николая Клюева... Однако ни один из этих (и многих других) чудаков русской словесности не удостоился прижизненного статуса человека-мифа, хотя в эпоху Серебряного века свой собственный миф творил каждый крупный художник.
Химерическая многоликость вошла в моду.
Что в этом историческом калейдоскопе означало «сохранить лицо»? И какое лицо (всё-таки) было у А. И. Тинякова?
По Сенчину выходит — лицо поэта.
Наконец, сам поэт оказался пророчески точен в самоопределении, подписываясь в первых публикациях пошловатым, в духе гениального безвременья, именем Одинокий, отсылающим сразу ко всей тогдашней, «посленадсоновской» (1900-10-х гг.) изящной словесности: «Знаю сам, что я зол, / И порочен, и слаб; / Что постыдных страстей / Я бессмысленный раб» (Мережковский) «Я — Бог таинственного мира. Весь мир — в одних моих мечтах...» (Сологуб); «Я ненавижу человечество, / я от него бегу спеша, / моё единое отечество — / моя пустынная душа» (Бальмонт) и т.под.
Тиняков «беззастенчиво» цитировал кумиров — и в пределах собственных сил аккомпанировал отражённым голосам. Уплотнённая интертекстуальность ранних стихов (1900-е) уступит в конце 1910-х «постмодернистской» всеохватности зрелых.
Все голоса и кривые отражения раннесимволистской и декадентской поэзии рассеялись в лирике Тинякова, и всё-таки общее полифоническое звучание не могло заглушить голосистой индивидуальности, всё более крепнущей в годы «общественных катаклизмов», когда окончательно раскрепостилась душа поэта. Требовалось время.
История литературы в последующие годы доказала «своевременность» Тинякова: так, Р. Сенчин отмечает определённую преемственность поздней прозы Георгия Иванова («Распад атома») и творчества Тинякова, находит эстетические созвучия в первых романах Генри Миллера и поэтических опытах своего героя. Продолжая этот ряд, мы можем вспомнить поэтов-мистификаторов Пессоа (и его «производные»), Черубину де Габриак... Другие голоса «распадной» эпохи. Тиняков открывается как тип, Тиняков как человек своего века.
Возвращаясь к строфам, предпосланным нашей статье в качестве эпиграфа, включающим и сологубовское, и бодлэрианское, и брюсовское (недаром великий и могучий Валерий Яковлевич служил для Тинякова вечным недосягаемым светилом — и вдохновляющим, и опаляющим не в меру дерзкие крылья), и какое угодно воспоминание, отметим третью: «Христос израненный и к древу пригвожденный, / И пьяный сутенер в притоне воровском — / Четою дружною, навеки примиренной, / Не споря меж собой, живут во Мне одном» (1919-й г.).
Это уже тиняковское — без разрыва, без позы, без аллегорической тени.
Почти детское саморазоблачение.
Оказалось, он и был одиночкой — настоящим и отчаянно несчастным — каким и бывает если не гениальный, то уж наверное подлинный поэт. Во всех превращениях. В любых маскарадах. Во всякие времена.
В этом достоинстве — прожить отпущенный на Земле срок самим собой, — быть может (по Сенчину), и состоит особое величие Тинякова, «опоздавшего декадента», «красного символиста», «профессионального нищего», демонстративно просящего подаяния в «прекрасном новом мире» сталинского социализма:
«“Он имел несчастье прожить больше, чем ему надлежало”, – сожалеет Зощенко, вспоминая Тинякова 1912 года, когда тот был чист, красив и читал эстетские стихи.
На мой взгляд, Александр Тиняков и был создан природой как раз для вот этой своей жизни, которая была «больше». После. Не будь ее, мы бы имели чуть другое представление об истории страны середины двадцатых — начала тридцатых, о людях, ее населявших. Впрочем, о людях — громко сказано: Одинокий и остался одиноким. По-настоящему одиноким, единственным в своем роде. Не прятался, как поэт Александр Добролюбов, в Узбекистане, не убил себя, как, видимо, понявший, что писать ему свободно уже не дадут, Есенин, не пытался наводить мосты к чуждой ему идеологии, как Михаил Булгаков, не продался за пайки, дачи и квартиры, как большинство перетекших из одного социального строя в другой литераторов. Тиняков остался свободным…»
Свою книгу — ещё одну и самую широкую тропу к открытию Тинякова — Р. Сенчин начинает серией аксиом: «Серебряный век породил множество талантливых поэтов — живут в русской литературе считаные имена… Время от времени литературоведы пытаются вернуть читателю очередного забытого сочинителя, издатели выпускают сборники стихов, но почти всегда это заканчивается неудачей: сочинитель вновь уходит в небытие.
Воскреснуть в литературе — такое же чудо, как и в реальной жизни».
«Чудо Тинякова» и вправду взывает к осмыслению. Чему вторило, на что откликалось воскрешение Тинякова в девяностые и чем воспитано настойчивое возвращение в нулевые, в десятые и, наконец, сегодня, в двадцатые?.. Какими из множества ликов и обличий Александр Иванович Тиняков конгениален нашему времени?
Хотите знать — читайте книгу.