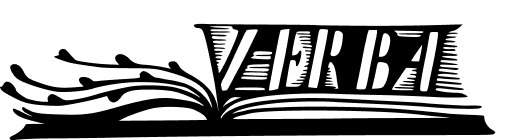***
«...тебя младой Назон,
Эрот и грации венчали,
А лиру строил Аполлон».
А. С. Пушкин. К Батюшкову
Времена не выбирают...
Возможно, нам, оставившим далеко позади ХХ век с его манифестами и манифестантами, бросающими с корабля современности Пушкина ли, римские изваяния, синтаксис, пунктуацию или язык вовсе; с его шедевральными писсуарами, Штокхаузеном и «конкретистами», с его «Галактикой мультимедиа» и его симулякрами, не достаёт ощущения подлинности жизни?
Где же искать подлинности? Под грудами «брошенного» вон. Вместе с обломками кораблей Маринетти, Бурлюка, Дали (с приятелями), Лимонова и прочих гениальных смутьянов словесности русской и зарубежной, «балласт истории» вперёд реформаторов (то есть в авангарде) вынесет летийская волна. К нам в руки.
Так работает история культуры. Таков механизм или, лучше сказать, природа культурной памяти.
Так Винкельман «откопал» немцам античность – и Лессинг, а за ним – штюрмеры повторили «на германском материале» опыт итальянского Возрождения; так Макферсон выдумал британцам национальную эпику, так романтики воскресили величественный гений Шекспира, погребённый под гардинами классицизма, и, наконец, князь Мусин-Пушкин выхлопотал у Старца-Времени Слово о полку Игореве, потеснившее «циклопические» муляжи Хераскова... и т.д.
История культуры – повесть «с ключом». Всегда что-то забывается, теряется, по небрежности закатывается под чьё-нибудь сукно – и обретение такого гостя из золотого века в медном для культуры может оказаться спасительным.
Исток Ипокрены, в стихах Батюшкова бьющий с исправностью водопровода, освежит нашу послемаклюэновскую галактику.
Почему исследование Глеба Шульпякова появилось именно сегодня? Кажется, о творческой судьбе и личной драме Константина Николаевича Батюшкова написано за с лишком двести лет немало – начиная от воспоминаний первого русского компаративиста Вяземского – лукавца, балагура, озорника с осиным жалом – и автора мрачных поздних стихотворений в духе зрелого Тютчева, – и кончая академическими трудами Л. Я. Гинзбург, В. А. Кошелева и других классиков советской науки.
Выходит, есть запрос – не только личный, авторский, следствие читательской или учёной склонности, но требование времени – духовный импульс, исходящий из наших времён в батюшковские – из лихолетья двадцатых, из века во всех отношениях железного – в годы победной эйфории 1812 года, когда брезжил «золотой век» русской культуры.
«Что ни век, то век железный...», – писал в минувшем столетии Александр Кушнер, как бы представительствующий от классической традиции в советской поэзии застойных 1970-е.
Таким эмиссаром идеальной, горацианской античности (анакреонтической Элладой ведал старик Державин) Батюшков присутствовал в мире – к ней удалился тенью, не внемлющий новой деннице русской истории.
Может статься, где-то впереди самые из нас зоркие различат фигуру нового Саши Пушкина?.. Отрока, который вырастет быстро – и столь же стремительно пронесётся протуберанцем. Время ускорилось – и, как ни парадоксально, потеряло в цене.
Мы попросту перестали слышать его.
Кому-то, ежели не Батюшкову, одержимому страхом перед временем и, подобно праздному Прусту или стареющему Валентину Катаеву, заворожённому им, его таинственным механизмом, наставлять нас в искусстве чувствовать и «настигать» Время?..
(«Неужели всему конец?..»)
Оттого, быть может, его, поэта памяти и времени, «призвали всеблагие»? Нам в собеседники – и нам в учителя.
***
Новая книга Глеба Шульпякова, не претендующая на создание «идеального», «канонического» или хотя сколько-нибудь идеологически ангажированного облика поэта, встраивается в русло мощной традиции советской литературы, воспитанной талантами Тынянова, Л. Гроссмана, Воронского, Синявского и других писателей-филологов. И в романах Юрия Тынянова о Пушкине, Грибоедове, декабристах, и в опытах Синявского художественная условность элегантно и сочеталась с историко-культурным исследованием.
Все эти люди, помимо читательского и учёного искусства, обладали немалым писательским дарованием – увлекательно, точно, исторически и эстетически грамотно написать облик гения – духа времени.
Под пером подлинного художника оживают, как бы выступают из седой академической тени позабытые кумиры, как то: хитрец во стане — князь Шаховский, тяжеловесный ратник российской словесности адмирал Шишков, трижды разжалованный в дилетанты граф Хвостов или злополучный визионер Бобров — вдохновлять живым движением культурные окаменелости — миссия нетривиальная и, на наш взгляд, благородная. И, если «мастодонты» эпохи, до смерти обращённые в живые карикатуры, обрели голоса и плоть, не говоря о по-прежнему «живых и юных», выходит, что замысел удался.
Убедительно и верно написать не только величие (не памятника – человека) Карамзина, лидера «новаторов» языка, но и величие Шишкова, главы «архаического» лагеря, вероятно, нелишне в наши дни, когда поиски пресловутой опоры завели если не в тупик, то в потёмки. Культура, только культура, и прежде всего — словесность — способны утвердить, скрепить в прочный фундамент и общечеловеческие, и национальные, и личные ценности — в этом убеждали нас лучшие умы «золотого века» (Пушкин, Тургенев, Некрасов) и века советского (Ленин и его «певцы»: В. Катаев, М. Шагинян, И. Эренбург), разновидные как талантом, так и мировоззрением.
Культурная полемика движет время с не меньшим успехом, чем техническая революция. Порой интеллектуальные залпы гремят сильнее и резонируют в столетиях дольше орудийных громов. Так роман Гюго спас от погибели достояние парижского зодчества, а пьеса Горького, вероятно, ускорила первый из роковых переворотов новейшей российской истории. В «здоровые» (не обязательно благополучные) времена литература способна воздействовать на умы — и до тех пор, пока слово этот статус держит, человек остаётся всё-таки божьим подобием.
«Лёгкие», «сладкозвучные» стихи Батюшкова обновили словарь русской поэзии, насытив его «прелестными мелочами» житейской прозы:
Наперстники забавы,
Любви и важных муз,
Беспечные счастливцы,
Философы-ленивцы,
Враги придворных уз,
Придите в час беспечный
Мой домик навестить –
Поспорить и попить! («Мои пенаты», 1811)
Не в таких ли «мелочах» всего тоньше проявляется ощущение «живой жизни» (Тютчев)? В тех местах, где всего тоньше ткань, отделяющая горнее и дольнее пространства. Ведь и жизнь земная — мгновение.
Нюансы чувства и чувствования, быта и бытия, желания и вожделения — поэтическая интуиция Батюшкова, чуждая монументальной основательности гнедичевского дарования или могучей «холодности» таланта Жуковского, настроена ловить звучание «живой жизни», находя в ней неуловимую метафизику.
Сие — присутствие создателя в созданье...
Какой для них язык?.. Горе душа летит,
Всё необъятное в единый дух теснится
И лишь молчание понятно говорит...
(В. А. Жуковский, «Невыразимое»)
Жуковский, а позднее, ступая ими проторенной дорогой, Пушкин, Лермонтов, Баратынский, Тютчев будут искать, упорные в звании поэта, нащупывать слово, чтобы назвать «невыразимое». Батюшков, кажется, приблизился к этому искусству.
***
Ещё раз о времени
Жуковский, время всё проглотит,
Тебя, меня и славы дым,
Но то, что в сердце мы храним,
В реке забвенья не потопит!
Нет смерти сердцу, нет её!
Доколь оно для блага дышит!..
К. Н. Батюшков
Наше мученье и наше богатство,
Косноязычный, с собой он принес —
Шум стихотворства и колокол братства
И гармонический проливень слез.
О. Э. Мандельштам
Историко-литературный очерк Шульпякова естественным образом становится исследованием времени — времени батюшковского и времени вообще — его морфологии, его механики, его поэтики. Время обратило Боброва, жертву озорного пера Вяземского и Батюшкова, в пророка, в предтечу поэтов-метафизиков, «патриарха» Шаховского — в шута горохового. Подобные «выходки» (вспомнить хотя случаи К. Случевского или Надсона, «открытых» посмертно, потомками) за ним известны — время — фокусник.
Лира Батюшкова отозвалась в самых неожиданных уголках русской поэзии: в Серебряном веке это и Михаил Кузмин («Где слог найду, чтоб описать прогулку?..»; «Дух мелочей, прелестных и воздушных!..»; «Отрадно улететь в стремительном вагоне...», «Что воспеть мне?..» – и т.д.), и Осип Мандельштам («Словно гуляка с волшебною тростью,/ Батюшков нежный со мною живет./Он тополями шагает в замостье,/Нюхает розу и Дафну поет»), знаток и любитель батюшковской «нежности».
Как известно, за Кузминым после яркого дебюта на годы (едва ли не до знаменитой «Форели») закрепился статус «певца мелочей прелестных и воздушных». Ярлык, на исходе памяти тяготивший Батюшкова, обращал «русского эллина» Кузмина, искусного реконструктора, стремящегося «остановить мгновение», создателя поэтической Александрии, в легкомысленного денди, фатоватого изобразителя, повторяющего в слове сомовских арлекинов и коломбин.
Подобных отражений, «косых соответствий» немало помнит история нашей словесности. (Такие соответствия, если угодно, исторические интерференции Г. Шульпяков очерчивает в книге.)
Река времён, по слову Державина, «в своём стремленье уносит все дела людей» к пропасти забвенья. Однако, отвечает Батюшков, от забытия спасает сердце – и что храним в нём, то избегнет хищных волн.
Довольно показательно, что Кузмина, после смерти на полстолетия канувшего в безвестность, «открыли» в годы перестроечной распутицы, когда зазоры в истории разошлись настолько, что воскресли не только высланные, старательно забытые, но попросту «не взятые» в современность имена. Сегодня зачем-то важно «воскресить» Батюшкова.
Проводя биографические аналогии, я вовсе не намерен помещать Батюшкова в ряд «позабытых поэтов», в соседство к С. Боброву, Н. Кукольнику или графу Хвостову – тем более Белинский в знаменитых статьях о пушкинских сочинениях и в ранних своих «Взглядах» прочно утвердил место «русского Парни» в отечественной словесности.
Однако нащупать и сформулировать его созвучие голосу нашего времени важно.
***
(Последний фрагмент)
Рвется вся грудь от тоски…
Боже! куда мне деваться?
А. Н. Апухтин
Я забывался бы в чаду
Нестройных, чудных грез.
А. С. Пушкин
Премудро создан я, могу на Вас сослаться:
Могу чихнуть, могу зевнуть;
Я просыпаюся, чтобы заснуть,
И сплю, чтоб вечно просыпаться.
К. Н. Батюшков, 1853
Повесть о жизни и судьбе поэта завершается вопросом, обращённым, наверное, к памяти, когда-то излишне многословной, иногда — не в пример скупой. Эсхатология личности поэта в авторском размышлении рифмуется с армагеддоном, пережитым, «отрепетированным» человечеством в прошлом веке дважды. Неужели этому суждено повторится теперь? Станет ли «сей раз» последним?
Батюшков не болен — больны все, «каиновы потомки», век от века повторяющие глупость самонадеянных и промотавшихся отцов. Больны те, кто сохраняет невозмутимость в отвесном падении «вниз головой», не ведающих в этом перевёртыше тревоги.
Все — и ваш покорный самозваный доктор.
Здесь позволю себе отступление.
Книгу Глеба Шульпякова среди прочих новинок предложили к обсуждению участникам Четвёртой школы литературной критики им. В. Я. Курбатова, проходящей летом нынешнего года в Ясной Поляне. Имя героя побудило меня выбрать её и попытаться отрецензировать. Итоги читательских рефлексий мы представили в узком кругу единомышленников.
Одна из моих дорогих коллег, собеседников и оппонентов в «стихийных спорах» о русской литературе, о Батюшкове поэте и герое, Анастасия Казьмина предположила, что для поэта умного эпикурейства, нежной дружбы и скромной, домашней любви состояние безумия, отрешённого присутствия «там» оказалось единственно возможным, естественным ответом на стремительные перемены. Беспамятство Батюшкова – его темница и его приют, его тихая обитель, его вечное «тогда».
Глубокая мысль Анастасии мне и прочим рецензентам книги Глеба Шульпякова запомнилась. В самом деле, три десятка лет, большую часть долгой жизни Константин Николаевич оставался где-то в минувшем, в полные ли юношеского задора 1810-е или беспокойные, смутные 1820-е – нам неизвестно. Память его прекратила искать впечатлений, сознание обратилось вспять – и одно из последних стихотворений поэта, уже ушедшего «в мир теней», служит последним с ней, памятью, объяснением:
Я памятник воздвиг огромный и чудесный,
Прославя вас в стихах: не знает смерти он!
Как образ милый ваш и добрый и прелестный
(И в том порукою наш друг Наполеон)
Не знаю смерти я. И все мои творенья,
От тлена убежав, в печати будут жить:
Не Аполлон, но я кую сей цепи звенья,
В которую могу вселенну заключить.
Так первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетели Елизы говорить,
В сердечной простоте беседовать о боге
И истину царям громами возгласить.
Царицы царствуйте, и ты, императрица!
Не царствуйте цари: я сам на Пинде царь!
Венера мне сестра, и ты моя сестрица,
А кесарь мой — святой косарь.
Сегодня, во времена тотального разжалования — памяти, культуры, прошлого, с которым каждый по-своему сводит счёты и по суду совести или произвола выносит приговор, хочется повторить набоковскую строчку и сказать: «Память, говори!» — сказать — и бояться услышать.