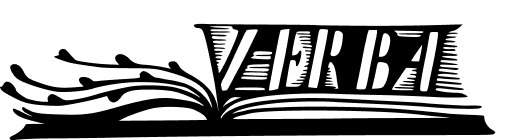***
Закат советской эры стал одновременно рассветом литературно-эстетических и философских исканий – так всегда резонирует дуга истории.
Одним из наиболее провокативных и известных литературных Проектов тех лет стал проект русского постмодернизма в различных его итерациях.
Прежде всего – в концептуалистской.
Феномен концептуалистов (художники и писатели Пригов, Кабаков, Рубинштейн, Сорокин, Монастырский и др.) можно сравнить с появлением в теле трупных червей, а также с восточными техниками медитации на разлагающееся человеческое тело (не случайно этот сюжет позже будет появляться у буддиста Пелевина – спутника и наследника концептуалистов, особенно Монастырского, тоже буддиста) – эти авторы захвачены существом смерти, и смертности всего советского. А шире, как и их западные Учителя, вроде Джона Барта, – всех вообще «вертикальных» нарративов, смыслов (вспомним известную «похоронную азбуку» Пригова: «вымерли все», говорит Пригов, а дальше через двоеточие идет длинное перечисление философов, концепций, политик, субъектов, вещей и пр.).
Нет ничего, есть Ничто.
В этом, с позиции классического этоса и классической эстетики, им противостояли писатели-деревенщики и традиционалисты «русской партии»: Белов, Распутин, Куняев и пр. Их бунт против революционного нигилизма городского подполья глубоко укоренен в традицию, а критика строится на понятных и многажды разобранных основаниях.
Куда интереснее и неожиданнее здесь выступает идеологически приближенный к деревенщикам, но внутреннее и писательски отличный от них, – Александр Проханов.
Ровесник концептуалистов, но в отличие от них автор вполне официальный, «литературный функционер», получивший «путевку в жизнь» от Юрия Трифонова, прекрасный баталист, певец афганской кампании, он многими поверхностно взирающими современными читателями воспринимается как «графоман». Это расхожая, предвзятая оценка. Но лишь немногие (отчего-то) видят в этом стиль, и сознательный китч – это в сущности та же постмодернистская эстетика. Лучше всего это определил, наверное, главный читатель Проханова Захар Прилепин: как стиль «русского юродивого»: «…Проханов начинает свои творенья как чудесные фрески, потом берет малярную кисть и мажет, где не закрашено, будто по забору — жирными, неровными мазками, затем бросает и эту кисть и макает в краску руку, доделывая картину так — пятерней»[1]. Действительно, трикстерского в нем немало.
Но начинал он не с этого, а вернее не сразу. Тексты Проханова советского периода куда более формально строги, менее ироничны: «Время полдень» (1975), «Вечный город» (1981), «Дерево в центре Кабула» (1982), и др. И тем не менее уже и тогда, с самого начала, он творил свою литературную мистерию. Инспирированный в систему он незримо менял ее, наполнял невиданным (или хорошо забытым) доселе измерением. И речь здесь не о эзоповом языке.
Материалистический, гражданственный канон социалистического реализма под пером Проханова связывается сотням капилляров с русской мистической традицией. Внук баптистского пастора юноша Проханов воспитывался на дореволюционных изданиях сочинений Бердяева, Лосского, Гумилева. Особенно Гумилева. От него он позаимствует дух «конквистадора», и кшатрийское бесстрашие перед битвами, что приведут его, советского военкора, в горячие точки века, в эпицентры геополитических конфликтов, горнила гражданских войн по всей планете (Ангола, Афганистан, Никарагуа), вплоть до украинского Раскола. Мало кто из его современников может похвастаться такой же интенсивностью экзистенциального проживания жизни, как он, Проханов. От Гумилева же ведет свою генеалогию и образ «последнего солдата Империи», «соловья генштаба», – вослед поэту Проханов мог бы сказать о себе: «Золотое сердце России / Мерно бьётся в груди моей».
От «серебряного века» он восходит и глубже: к Аксакову и Пушкину, фольклористам Афанасьеву и Далю, к славянофилам и афонским старцам, и наконец – к трагическому пафосу «Слова о полку Игореве», скорбное воззвание к единству русских людей которого длится в прохановской прозе.
Здесь мы подходим к «различию в единстве» между Прохановым и концептуалистами:
Концептуалисты, стремясь к эрозии железного занавеса, пишут коммунистические знаки без содержания, лозунги без смысла, – так они подчёркивают отчуждение между советской идеологией и жизнью (соц.арт Кабакова). Прохановский китч, на первый взгляд, направлен на это же, он играет с формами и пафосом большого официозного стиля, но уходит в магический реализм, вроде любимого советским читателем Гарсия Маркеса, где идеологемы лишаются своего мертворожденного содержания.
Это принципиальное отличие. Теряя нутро символы не становятся полыми, как то происходит у концептуалистов. Проханов присваивает их себе и наделяет новым содержанием, жизненной энергией, – мертвое делая живым. Так, красное знамя, серп и молот превращаются из марксистских космополитических атрибутов в «символы веры» и «мощи святых», за которыми стоят «костьми легшие» русские воины, ветераны войны, Гагарин, Королев, стахановцы и т.д.
И если тот же В. Сорокин, следуя за Фуко, занимался последовательным развенчанием всякого дискурса, как источника насилия, то Проханов переформатировал беспочвенный и потому уязвимый коммунистический дискурс в дискурс имперский. Красно-имперский. Укорененный в традицию. То, что лишь нащупывали деревенщики вроде Солоухина, Проханов сделал явью – восстановил историческую целостность и инициатическую преемственность российской истории. Объединение правых и левых патриотических полюсов, исцеление религиозных и политических ран страны стало главной подвижнической миссией писателя.
Позже этому даст звонкое название другой, вернувшийся из американской эмиграции, мистик, Юрий Мамлеев: «Россия Вечная». Именно эту Россию Проханов и тысячи других защищали под красно-имперскими стягами в октябре 1993 года.
Интересно, что Проханова так же как и постмодернистов увлекают образы умершей материи, заброшенных форм, об этом писал Лев Данилкин: в отличие от своих старших литературных учителей писатель не брезгует в красках описывать трупы, погибших людей, борозды ран, скелеты и черепа (его любимая история из детства - о том как он с мальчишками играл черепом в футбол на погосте опустевшего храма). Но если концептуалисты, а вместе с ними и прочие постмодернисты (вроде Вик. Ерофеева, особенно возлюбившего трупные запахи), на фоне разворачивающейся «крупнейшей геополитической катастрофы» занимаются, как мы указали, поэтической некрофилией, живописанием патологии, обернутой в интеллигентский пафос «разложения/деконструкции советского проекта», в перфоманс, – то Проханов со всей очевидностью стремится «попрать смертью смерть». Некрология у него это даже не некромантия (т.к. последняя есть лишь пассивный диалог с миром мертвых), а мистическое «воскрешение мертвых». Федоров возникает здесь не случайно. Линия русского космизма тянется всё из той же мистической русской традиции, в которую Проханов был укоренен самым непосредственным образом. Его мечта о «Пятой империи», о «храме на холме» это ни что иное, как греза о восстановлении «братского состояния мира», что описывается в футуристических федоровских сочинениях.
Лирический герой Проханова, присутствующий во всех его текстах, это потому почти Пуруша, Адам Кадмон русской цивилизации: он ощущает ее всю в себе, через себя. И пять русских империй есть неразрывные составляющие его пульсирующего тела, подобно пяти элементам в аюрведе[2]: «Я шагал в травах Куликовского поля, я умывал лицо в Непрядве, я молился в церкви у Чудского озера, где в годовщину Ледовой битвы в храме сами собой загорались лампады. Я насыпал в свою ладонь зерно из ржаного колоса на Бородинском поле. А на Прохоровском сорвал и положил себе в рот сладчайшую землянику. Я чувствовал трепет и дрожание русской истории. Я видел эту сверкающую мистическую синусоиду, её не случайность, а закономерность, её таинственную математику, её глубинный закон»[3].
В итоге там, где концептуализм и постмодернизм, пожрав советский труп, приходят к своему эстетическому тупику, к пустоте (Рубинштейн, Ерофеев писательски так и остались где-то в коммунальных квартирах 80х, чуть лучше себя чувствует Сорокин) – Проханов устремляется в будущее, вместе с хлынувшей в него российской историей, вплоть до сегодняшнего дня. И формулирует исторические смыслы России в своей газете «День»/«Завтра», и на заседаниях «Изборского клуба».
То, что казалось мертвым и ненужным в эпоху «реставрации капитализма» 90х годов, что называлось либеральной элитой «красно-коричневой реакцией» – теперь воспламенело наново. Так Проханов сотворил гераклитово чудо.
[1] Прилепин З. Книжная полка Захара Прилепина // Новый мир. – 2011. – №6
[2] Аюрведа – система традиционной медицины в индуизме. Согласно ей вселенная состоит из пяти первоэлементов: земли, воздуха, огня, воды и эфира.
[3] Проханов А. Симфония пятой империи // Завтра. – 2024. – №16