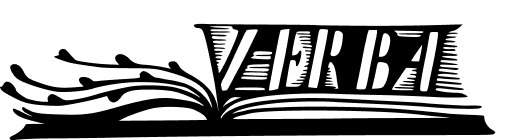***
В момент, когда ты произносишь это слово вслух, земля уходит из-под ног. Ты сама непременно почувствуешь.
Будто (очень короткая) нитка через игольное ушко – вперед-назад. Сам воздух становится тонким, разряженным.
Боковым зрением видишь, как пространство моментально тускнеет. Полутень сжимается. Со временем она превратится в тоннель. Постоянно сужаясь. Пока оставшийся отблеск света не уменьшится до такой степени, что ты сможешь обхватить его двумя руками. А затем он погаснет.
Когда с твоих губ срывается слово «хоспис», ты словно признаешь: надежды нет.
Никакой надежды. Слова неприличные, непроизносимые вслух. Ведь не иметь надежды - значит не иметь будущего.
И хуже того: признавая, что у тебя нет будущего, ты доказываешь, что «сдалась».
И когда слово «хоспис» звучит впервые – со стороны врача паллиативной помощи (конечно, женщины), так осторожно, бережно, – ни он, ни ты не слышите его. А если и слышите, то не понимаете его смысл.
Гул в ушах, будто рев далекой сирены; сирены в запертой комнате. И больше ничего.
Если ты его не слышала, возможно, его (еще) не произнесли вслух.
Если никто из вас его не слышал, возможно, его (никогда) не произнесут.
Но каким-то образом это происходит: слово «хоспис» звучит все чаще и чаще.
И каким-то образом твой муж, неожиданно для самого себя, заводит разговоры о своих «последних днях». Например: «Мне кажется, мои дни сочтены».
Будто робко. Он звонит по телефону рано утром – наша договоренность – сразу после того, как врач закончит осмотр.
По телефону, чтобы муж не видел твоего лица. А ты – его.
Новая робость похожа на изначальную. Когда мы искали способ сказать «я люблю тебя».
Невозможное для некоторых признание: «я люблю тебя».
Но твой муж как-то справляется, и ты вторишь ему: «я люблю тебя».
И сейчас, годы спустя, он говорит: «Мне кажется, мои дни сочтены».
Эти слова ты слышишь в телефонной трубке отчетливо, неотвратимо, однако (ты можешь поклясться) он их не произносил. Нет!
Но нет, ты их услышала. Должно быть услышала. Стены идут ходуном, кровь приливает к вискам, в глазах темнеет, колени подгибаются, и ты заикаешься, как испуганный ребенок: «Что? О чем ты говоришь? Это бред. Не шути так! Что ты имеешь в виду под «дни сочтены»»?
В твоем голосе звучат безумные нотки. Хочется отшвырнуть телефон подальше от себя.
Ты не сможешь это вынести. Ты не веришь. Не знаешь в тот момент о безграничной Сахаре, раскинувшейся впереди, со всеми невзгодами, которые, как бы ни страдала, ты в конце концов переживешь, и именно ты.
Ты борешься всегда, на каждом отрезке пути.
Это крутой подъем. И сопротивляться нормально. А если ты уже смирилась с ним, можешь утешить себя мыслью о том, что все это временно. Плато, равнина, к которой ты привыкла, ждет тебя, вас обоих. Вы вернетесь сюда. И скоро.
До определенного дня, часа – непременно наступит этот день, этот час – когда ты сама начнешь употреблять слово «хоспис».
Поначалу ты мнешься, колеблешься. Кажется, будто горло раздирают металлические опилки.
Постепенно ты учишься проговаривать эти два слога четко, храбро: «хос-пис».
Вскоре ты начинаешь повторять эти два слова отчетливо, осознанно: «наш хоспис».
Затем ты даешь клятву. Причудливо твердишь самой себе заветные слова, будто приносишь обет Богу.
Да, моя надежда в этом: я превращу наш хоспис в медовый месяц.
Я клянусь окружить мужа заботой настолько, насколько это в моих силах.
Делать его счастливым. Делать счастливыми нас обоих.
Исполнять все его желания, чего бы он не захотел, конечно, в пределах моих возможностей.
Во-первых, найду для него новое место. НЕ в Онкологическом центре. Устрою хоспис в нашем доме, в месте, которое ему так дорого.
Атриум, залитый солнечным светом.
Горизонт, укороченный верхушками деревьев, кольцом обрамляющих наш дом.
Флотилии фигурных облаков.
Муж сможет лежать на диване, любуясь деревьями и небом. Удобно покоиться на подушках с приподнятыми (в теплых носках) ногами.
Или, вернее, он сможет лежать на (арендованной) койке хосписа и смотреть в окно. И я устроюсь рядом с ним, как тогда, в больнице.
Держась за руки. Конечно, мы будем держаться за руки. Его руки такие теплые, такие сильные. И он всегда сжимает мои пальцы, когда я сжимаю его.
И он целует мои губы, когда я целую его.
Буду спать рядом с мужем, заключив его в свои объятия, не сильные, правда, а довольно слабые, но я все равно буду делать вид, будто полна сил.
Насыплю зерен на террасу за окном. Не обычных, а подороже – «для диких птиц», их покупает муж.
Стану с трепетом наблюдать за птицами. Хоть раз в жизни, медленно, невозмутимо…
А еще муж обожает музыку! Я окуну его в море самых чудесных композиций, когда он не будет спать. Пока это не станет ему в тягость, я буду лежать рядом с мужем на кровати, обнимая его, наслаждаясь вместе с ним одой “К радости” Бетховена, “Всенощным бдением” Рахманинова.
Засыпать с ним. Даже днем. Даже когда тусклые солнечные лучи станут падать на наши лица. Моя голова покоится на подушке рядом с его. Прижавшись друг к другу, щека к щеке.
Я выберу книги об искусстве и о его любимых художниках с наших книжных полок, а с его - книги о фотографии: Брюс Дэвидсон, Эдвард Уэстон, Диана Арбус, Элиот Портер. Я буду медленно переворачивать страницы, удивляясь вместе с ним.
Старые фотоальбомы, семейные фотографии, сделанные в начале прошлого столетия. Его семья, прадедушка и прабабушка, эмигрировавшие из Пале. Которым он заинтересовался лишь совсем недавно.
Его любимые блюда…Что ж, я попробую!
Когда он окажется дома, быть может, его аппетит вернется. А когда я стану готовить для него, уверена: я непременно смогу пробудить его аппетит.
Конечно, члены семьи решат нас навестить. Наши взрослые дети, внуки. Родственники, друзья. Соседи. Давние школьные приятели, с которыми мы не виделись без малого пятьдесят лет. И парочка сюрпризов для него – я организую их с фантазией директора театра.
Не простой хоспис, а наш хоспис. Не печальным, а радостным – таким запомнится нам наш медовый месяц.
Мы будем счастливы там, в нашем гнездышке. Каждый из нас.
И для нас обоих «последние дни» станут медовым месяцем. Я клянусь.
Но на самом деле ничего даже отдаленно похожего не произойдет. И как я вообще могла о таком подумать!
Хоспис, да. Но не медовый месяц.
Once the word is uttered aloud, there is a seismic shift. You will feel it.
Like a (very short) thread through the eye of a needle, swiftly in and swiftly out.
The air itself becomes thin, steely.
At the periphery of your vision, an immediate dimming. The penumbra begins to shrink. In time, it will become a tunnel. Ever diminishing. Until the remaining light is small enough to be cupped in two hands. And then it will be extinguished.
For when “hospice” is spoken, the fact is at last acknowledged: There is no hope.
No hope. These words are obscene, unspeakable. To be without hope is to be without a future.
Worse, by acknowledging that you are without a future, you have “given up.”
And so when the word “hospice” is first spoken—carefully, cautiously, by a (female) palliative-care physician—neither of you hears it. Or, if you hear it, you don’t register that you have heard.
A low-grade buzzing in the ears, a ringing, as of a distant alarm, an alarm in a shuttered room. That is all.
For if you don’t hear, perhaps it has not (yet) been uttered.
For if neither of you hears, perhaps it will not (ever) be uttered.
Yet somehow it happens: “hospice” comes to be more frequently spoken as the days pass.
And somehow it happens that your husband, surprising himself, begins to speak of his “final days.” As in, “I think these might be my final days.”
As if shyly. On the phone very early one morning, when he calls, as he has been calling, immediately after the oncologist making rounds in the hospital has examined him.
On the phone, so that he is spared seeing your face. And you, his.
A new shyness like the first, initial shyness. Finding some way to say I love you.
For some, an impossible statement—I love you.
But your husband managed it, and you managed it, somehow: I love you.
And now, years later, it is “I think these might be my final days.”
These words you hear over the phone distinctly, irrevocably, yet (you would claim) you have not heard them. No!
But, yes, you’ve heard. Must have heard. For the walls of the room reel
giddily around you, blood rushes out of your head, leaving you faint, sinking to your knees like a terrified child, stammering, “What? What are you saying? That’s ridiculous. Don’t say such things! What on earth do you mean—‘final days’?”
Your voice rises wildly. You want to fling the cell phone from you.
For you can’t bear it. You don’t think so. Not knowing, at this time, the vast Sahara that lies ahead with all that you cannot bear, that nonetheless will be borne, and by you.
For always, each step of the way, you resist.
It is a steep uphill. It is natural to resist. Or, if you accept the steep climb, console yourself with the thought that it is only temporary. The plateau, the flatland to which you’ve been accustomed, awaits you,
both of you. You will return there. Soon.
Until a day, an hour—always there is a day, an hour—when you began to speak of hospice yourself.
At first, you, too, are shy, faltering. Your throat feels lacerated as if by metal filings.
Gradually, you learn to utter the two syllables clearly, bravely—hos-pice.
Soon after that, you begin to say these distinct, deliberate words: “our hospice.”
Soon, you draw up your vows. Quaintly state to yourself, as if to God, a formal decree.
It is my hope: I will make of our hospice a honeymoon.
My vow is to make my husband as comfortable as humanly possible.
To make him happy. To make us both happy.
To fulfill whatever he wishes that is within the range of possibility.
First: a new setting for him. NOT the Cancer Center. Our hospice will be in our home, which he loves.
The atrium flooded with morning light.
The foreshortened horizon—for the house is surrounded by trees.
The flotillas of sculpted clouds.
My husband can lie on a sofa, staring at the tree line and at the sky. Comfortable on the sofa with pillows behind him and feet (in warm socks) elevated.
Or, more likely, he can lie on a (rented) hospital bed, positioned in such a way that he can easily gaze out the window. And I can lie beside him, as I have done in the hospital.
Holding hands. Of course, we will hold hands. His hands are still warm—strong. His fingers, when squeezed, never fail to squeeze in return.
As his lips, when kissed, never fail to kiss in return.
I will sleep beside my husband holding him in my arms, not strong arms, in fact, rather weak arms, which nonetheless can be made to behave as if they were strong.
I will scatter seed on the redwood deck outside the window. Not ordinary seed but the more expensive “wild bird seed” my husband purchases.
Thrilling to watch the birds. Taking the time, undistracted, really watching, for once . . .
And my husband loves music! I will bathe him in the most beautiful music through his waking hours. So long as it is not uncomfortable for him, I will lie on the bed beside him, holding him, listening with him to Beethoven’s “Ode to Joy,” Rachmaninoff’s “Vespers.”
Falling asleep with him. Even during the day. Even with wan sunshine slanting through the window onto our faces. Head on the pillow beside his head.
From the bookcases in the house, I will select art books, his favorite artists, books from his photography shelves—Bruce Davidson, Edward Weston, Diane Arbus, Eliot Porter. I will turn the pages slowly, marvel with him.
Old albums, family photographs dating back to the early nineteen-hundreds. His family, great-grandparents who emigrated from the Pale. In which he has only recently shown an interest.
His favorite foods. . . . Well, I will try!
When he is at home, possibly his appetite will return. When I am the one to prepare his food, his appetite will return, I am sure.
Of course, family will come to visit. Adult children, grandchildren. Relatives, friends. Colleagues from the university. Neighbors. Old friends from grammar school he hasn’t seen in fifty years. Some surprises for him—I will negotiate with the imagination of a theatre director.
Not merely hospice but our hospice. Not sad but joyous, a honeymoon.
We will be happy there, in our own home. Both of us.
For both of us, the “final days” will be a honeymoon. I vow.
In fact, nothing remotely like this will happen. How could you have imagined it would!
Hospice, yes. Honeymoon, no.