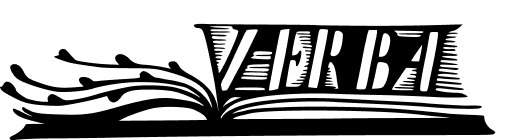***
А ему хотелось бежать, сию же минуту бежать куда глядит душа — в монастырский быт, в келью, в сады и беседы со старцем — к благообразной, нехитрой жизни, свету и скуке, келейной духоте и свежести утренней службы. Не туда — прочь отсюда. Опрометью, от себя напрасного. Долой осеннее, унылое, ясное — душа, телу гостья, просится в обитель, к весеннему и титульно чистому...
Он вымерял шагами комнату от окна до пустого проёма. Пять от окна — и четыре обратно. Шаг левой ноги на шесть сантиметров (или на полпяди) длиннее правой. В обратную от проёма сторону он шагает быстрее — на полторы секунды. (Он выяснил бы это, если бы перестал думать и подсчитал.)
Окно заперто наглухо, а в комнатах спёрто, холодно и сыро. Часы — в нескольких обличиях — и в разнобой отсчитывают каждые своё, не стараясь догнать друг дружку.
Бежать, бежать, бежать. Исчезнуть... Прекратить... (Или начать.) Перемениться, потеряться, исправиться во что-то...
И всё-таки он остаётся, вращается кругом этой мысли, не позволяя ей отяжелеть в замысел. Бежать, бежать, бежать...
Даже сейчас он шагает, бросается по удобно выверенной траектории от угла в угол — и знает, что спустя четверть часа повторений оденется (верхнее платье) и пойдёт куда угодно, только не в новую жизнь. Не пустится в бега. Не уйдёт странствовать. Он всегда предпочитал проторенные тропы, аксиомы, принятые до него решения, не им изобретённые истины. Он мечтатель.
Он всегда мечтает — он свыкся и с этим выкидышем — задолго до поражения он пожертвовал всё этому состоянию — блаженной мечты.
Побег, побег, побег...
Затвориться узником в минарете (или звонарём — под немым колоколом) — и глядеть ночь (ночью никто не ждёт), звездочётом и гадателем — шагами наследовать небо.
Туда, где время пылится и оседает на вещах и остаётся в пустотах, где время густо, почти осязаемо. Ему хочется ощутить время, не познать, но хотя бы нащупать.
(То есть как бы почти почувствовать.)
Там это возможно.
Предощутить этого не удавалось, и он думал, подчиняясь унынию, что эта мысль глупа и (пожалуй) греховна.
Стекла здесь недостаточно запылены — он различал в отражении подвижное очертание.
Он хотел бы увидеть в отражении лик.
(Он видел подобное в старом соборе — закрытую неплотной тканью фреску скорбно-мрачного серафима. Многокрылого — и навсегда неподвижного.)
Он думал об уединении, вспоминая серафима под куполом собора, о пыльной келейной духоте — и ожидании Ариэля. Сквозь вечер, через вертоградные купы, под редкими звёздами, под вековой прозрачностью послеполуночи, мимо косых скальных камней. (Темнота — та же пыль, та же вода.) Ожидание тем сладостнее, что почти наверное оно напрасно, ненужно, фантастично.
...да, сейчас, довыдумав этот замысел, он шагнёт, приступит, — он ложится на кособоко высеченную тахту, укрывается приливом, волны набегают и отступают, пенятся, завязываются у подбородка, плещут вокруг. Его волосы намокают — и он погружается в сон. Ему снится сад, раскинутый на камнях, солёный и шумный прибой, горячая душистая неопределённость часа...
(Не правда ли, рыба куда красивее в услужении у художника?.. Не правда ли, что её красота — в смерти? Так обязательно скажет Ариэль.)
...покой и, конечно, птицы.