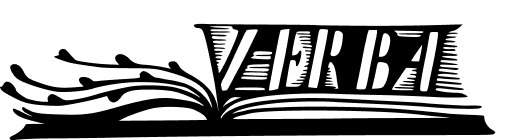***
«Старушка» жила в усадьбе. Хотя дворик ее ушел с молотка, новые хозяева все же нашли для нее местечко в доме, так что «Старушка» осталась жить там и дальше. И не жалела об этом. Ей не требовалось многого, она всегда умела проводить время с пользой, даже теперь, несмотря на то, что глаза ее помутнели, а память ослабла.
Стоило только пряже попасть в руки к «Старушке», как она принималась вязать дни напролет. Расстраивало ли кого то, что она припрятала несколько мотков у себя – нет, никого. Ведь из них она вязала носочки – подарки к Рождеству для Андерса и Якоба, ее сыновей. Только вот последним пристанищем Андерса стал погост, а Якоб, моряк, ушел в плавание Бог знает когда. Так и протирал простой люд со двора дырки в ее носках в последние годы.
То, что ни от Андерса, ни от Якоба не приходило никакой весточки, даже на Рождество, и правда беспокоило «Старушку». Но Якоб ведь бороздил моря и не был себе хозяином. А Андерс, верно, ушел, позабыв о своей старухе-матери, и это ее больно огорчало, злило. Горько ей было.
– Он обрел себя там, откуда не отпускают, – утешала ее молодая хозяйка, добрая душа. На что хозяин, остряк, смеялся вслух:
– Яма с три совка – право, уважительная причина не возвращаться и для бога, и для ленсмана.
Доля правды в этом была. Но память «Старушку» сильно подводила, оттого их слова казались ей пустой болтовней, развлечением молодежи, коротающей так праздничные дни.
И так на цыпочках она прокралась за угол печки, держа спицы и пряжу.
– Не явится он – и пускай. Но если все же явится, то увидит верно, что занимало его матери мысли.
И сидела она за пряжей. И пришло Рождество, а Андерс – нет, и Якоб тоже – нет. Ей принес праздник лишь горечь и тяжесть. И таким же тяжелым оказалось следующее Рождество, и следующее за тем, одно за другим – все слились в единую горькую череду.
Но однажды в Рождество – он явился. Только оказалось, что не Андерс то был, и не Якоб.
То был незнакомец, мужчина, желавший поесть что-нибудь, может, из того, что люд наготовил на Рождество, но не знавший, как и где раздобыть ему это.
Без стука прошагал он в кухню и увидел старуху, спящую мирно в углу за печью. Незнакомец опешил. По его расчётам, весь двор должен быть в церкви в эти часы. Он попытался проскользнуть мимо нее, так тихо, чтобы не разбудить. Но тихо не удалось.
– Якоб, ты ли это? – очнулась старуха.
Замешкался незнакомец:
– Это... нет.
– Значит, то Андерс! – воскликнула она, хлопнув в ладоши. – Как я могла сомневаться… Иди ко мне, хочу вновь дотронуться до тебя, сынок. Исусе, Исусе, что ж не побрился ты к рождественскому утру. Не уж то ты не пойдешь на заутреню, милый?
Да, должно было ему пойти в церковь. Опрятным и чистым, как полагается, но времени у него не было. К тому же живот его скручивал голод. - А с этим-то справимся! Наговориться успеем и после, – так на столе появились окорочок, и ветчина, и бреннвин, и все-все остальное.
Незнакомец старался почти не говорить, да хватал все, до чего могли дотянуться руки. В основном – мелочи, которым цена была невелика, но тут ему приглянулся прекрасный шелковый шарф, что молодая хозяйка оставила дома, хотя полагалось ей быть в нем нарядной в церкви.
– Ешь, ешь, милый. Садись, матушка твоя угощает, – уверяла «Старушка». Позабыв и о толках, и о хозяйке с хозяином, – обо всем-всем на свете. Но про носочки – не забыла. Целых три пары она связала. И так, часто-часто моргая, говорила она:
– Не беспокоят ли ноги тебя, Андерс?
Да, еще как беспокоили! И так забрал Андерс себе все три пары, тогда как одна из них предназначалась Якобу.
– Только Господу Богу известно, когда явится этот оборванец!– ценность же не в самом подарке заключается, а в том, что знаешь ты с этих пор, кто живет в мыслях старухи твоей.
В груди у незнакомца что-то защемило.
– …и милые мои думают, верно, что один, что второй – о матери своей.
И так достал он из рукава хозяйкин шелковый шарф, протянув ей. Дотронулась «Старушка» до этой прекрасной вещицы, да оторопела и бросилась прочь, обратно прятаться в угол.
– Исусе, Исусе, какой дурак! Да дозволено ли старой бабе носить шелка? Какая потеха!
– Дозволено, – поклялся ей незнакомец. – Дóлжно ей быть в шелках. – И так повязал он шарф вокруг ее плеч, и так поцеловал ее, и так отправился прочь – на заутреню.
Но когда вернулся народ из церкви, сидела «Старушка» на печи, дрожа вся, и плакала от счастья. И пропитали ее слезы насквозь хозяйкин прекрасный шелковый шарф. И со стола исчез окорочок, и выпит был весь графин, и все-все остальные вкусности тоже куда-то пропали.
Какой поднялся шум!
«Старушка» ни слова не понимала, не пыталась понять. Они кричали и бранили ее, и, видно, у них была причина кричать и браниться. Молодая хозяйка никак не могла стащить свой шарф с ее плеч. Так, что хозяину самому пришлось разгибать худые, крепкие пальцы старухи.
Ничто более не имело значения. «Старушка» позабыла тут же о шарфе. Но память о том, как сын навестил ее, не ослабевала с рождества до самого дня святого Кнута.
И то была долгая пора – пора рождественской радости.